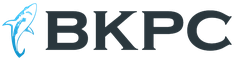Взгляды академик тарле о сильном государстве. Академик тарле, сталин и наполеон. общедиалектические методы анализа и синтеза, от частного к общему и от общего к частному, дедукции и индукции, отличающие практически все творчество мастера слова
Историю Великой Отечественной войны знаменитый историк Е.В. Тарле писать не стал
Книги Евгения Викторовича Тарле заслуженно принадлежат к классике отечественной историографии. Сын еврейского купца, принявший в 20 лет православие, убеждённый либерал (до революции) - закономерно ли, что он стал одним из главных создателей официальной советской патриотической концепции истории?
Современные исследователи могут не соглашаться с научными выводами Тарле, отмечать фактические недостатки его работ. Но от его книг не отнимешь главного достоинства - большинство их читаются как увлекательные художественные произведения. И ещё одно важное качество - он исходил из непрерывности русской истории, не разделённой 1917-м годом на две принципиально не совместимые части. Основная черта его концепции - русский державный патриотизм. С этой позиции он и пытался осветить исторические события.
Несомненно, что его концепция непрерывного, гармоничного исторического процесса в России полностью вписывалась в идеологическую установку режима Сталина начиная с 1930-х гг. Но невозможно сказать, что он создавал свои произведения, только руководствуясь заказом власти. Несомненно, что такая установка вполне отвечала его мировоззрению. Вряд ли Тарле, освобождённый Сталиным из алма-атинской ссылки и позднее увенчанный всеми мыслимыми в СССР лаврами учёного, руководствовался только чувством личной благодарности к советскому вождю. Как государственник и патриот, он не мог не сочувствовать шагам советской власти по возрождению державного авторитета России.
А каково было отношение Тарле к оборотной стороне процесса - необоснованным репрессиям в отношении представителей как интеллигенции, так и других классов российского общества? На эту тему написано немало спекуляций. Почти все они основаны на домыслах, потому что бесполезно искать прямого отражения мыслей Тарле о Сталине в его личной переписке. Время было такое, что подобных вещей бумаге не доверяли. Значительно более верным будет обратиться к собственно историческим трудам академика, где Тарле мог высказать свои мысли эзоповым языком. Это мы и сделаем несколько позже. А пока отметим такой важный факт:
Среди многочисленных научных работ академика нет ни одной, посвящённой Сталину и вообще советскому периоду. И вряд ли это случайно.
В 1948 г. Тарле получил от самого «отца народов» ответственное задание - написать трилогию о борьбе русского народа с завоевателями. По свидетельству историка, труд в совокупности так и назывался - «Русский народ в борьбе с агрессорами». В первой книге должно было говориться о вторжении в Россию войск шведского короля Карла XII и их разгроме, во второй - об Отечественной войне 1812 года. Венцом трилогии предстояло стать книге о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Первая книга из трёх задуманных - «Северная война и шведское нашествие на Россию» - вышла уже в 1949 г. Дальнейшая работа Тарле застопорилась. По мнению ряда его биографов, историк понимал, что выпуск в свет второго тома - про нашествие и разгром Великой армии Наполеона - автоматически поставит на очередь подготовку третьего тома, чего ему крайне не хотелось делать. Изложение Отечественной войны 1812 года проблемы для академика не составляло. Ведь он был глубоким специалистом как раз по теме международных отношений наполеоновской эпохи! Ещё в 1938 году была издана его книга «Нашествие Наполеона на Россию». Он мог бы незначительно дополнить её и переиздать. Вместо этого Тарле усиленно создавал впечатление, что он кардинальным образом переделывает свой труд по Отечественной войне.
В это время на пользу академику (если считать, что он хотел избежать написания апологетического труда о Сталине) послужила статья директора Бородинского музея С.И. Кожухова «К вопросу об оценке роли М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года», опубликованная в журнале «Большевик» (1951, № 15). Статья содержала резко критические высказывания в адрес довоенной книги Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». Согласно стилю времени, автор статьи придал ей жанр политического доноса. Причем этим не ограничился, но и направил соответствующее письмо в ЦК ВКП(б). Это письмо Кожухова стало предметом особого разбирательства в Отделе науки и вузов ЦК под руководством зятя Сталина Ю.А. Жданова.
Результаты «наезда на придворного историографа» не замедлили сказаться на его инициаторе. Уже в № 19 «Большевика» за тот же год появилась резкая отповедь Кожухову самого Тарле, в которой историк обвинил своего оппонента в «умышленном искажении» его взгляда на войну 1812 года. Вскоре Кожухова сняли с работы директора Бородинского музея и отправили куда-то на периферию упражняться в написании заметок для районной газеты.
Никто не сделал больше для продления культа личности Сталина после его смерти, чем сами антисталинисты. Ведь по их воззрениям получается, что Сталин был какой-то вездесущий и всеведущий сверхчеловек или полубог, если ничто в СССР не происходило без его ведома и одобрения!
Вот и этот эпизод, печально закончившийся отнюдь не для академика, а для того, кто осмелился его публично критиковать, они трактуют как попытку Сталина морально воздействовать на Тарле с целью поторопить того с написанием выгодной вождю книги, а заодно и продемонстрировать лишний раз строптивцу свою абсолютную власть. Однако ведь именно благодаря резкой критике, прозвучавшей в его адрес, Тарле получил благовидный повод отсрочить издание второго тома трилогии под предлогом коренной переработки. В октябре 1951 г. академик упоминает в частной переписке, что его новая книга про 1812 год «разбухла» и будет по объёму вдвое больше старой книги, т.е. «Нашествия Наполеона на Россию». Ну, а в 1953 г. умер Сталин, и заказ отпал сам собой. В 1955 г. скончался и сам историк.
Можно усомниться во мнении тех биографов Тарле, которые считают, что он умышленно тормозил подготовку книги о Великой Отечественной войны, так как якобы не хотел своим талантом и авторитетом возвеличить Сталина. Дело видится сложнее. Понятно, что все материальные блага, которыми Тарле пользовался в последние годы правления Сталина (кроме обычных для представителя научной элиты в то время роскошной квартиры, прислуги и персонального автомобиля с шофёром, ещё и личный железнодорожный салон-вагон для передвижений по стране), - недостаточная причина для беззастенчивого восхваления подателя сих благ. Однако, как историк, Тарле вряд ли в то время имел в душе какие-то основания отрицать, что победа русского народа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря руководству Сталина.
В чём же дело? А дело, на наш взгляд, заключается как в профессионализме, так и в политической осторожности историка. Профессионализм говорил ему, что ещё рано изучать историю только что закончившейся войны, тем более, когда закрыты все основные относящиеся к ней документы. Необходимо отметить, что, шарахаясь от сталинской легенды к антисталинской и обратно, мы до сих пор с трудом подбираемся к объективному изучению Великой Отечественной войны. Но Сталину, очевидно, был нужен не исторический труд, а наукообразный панегирик, подкреплённый научным авторитетом автора. Есть то, что политики называют «государственной необходимостью», и есть то, что учёные зовут «научной добросовестностью». Дело, таким образом, заключалось не столько в личности Сталина, сколько в несовместимости точек зрения представителей двух профессий на один и тот же предмет. Тарле это хорошо понимал. Понимал он и то, что никаким образом он этого вождю не объяснит. Оставалось тянуть время...
Это был вполне реальный расчёт, учитывая возраст и Сталина, и Тарле. Кроме того, Тарле имел перед собой множество исторических примеров, остерегавших его оставлять апологетический труд, подписанный его именем. Тарле вообще часто (явно и не очень) прибегал к аналогиям в своих исторических трудах. Мы уже писали («Как Сталин учился на ошибках Наполеона»), что Тарле проводил совершенно прозрачные аналогии между Наполеоном и Сталиным как вождями двух победивших великих революций. И эти сопоставления сам Сталин, судя по всему, считал очень поучительными.
Так вот, Тарле хорошо знал из истории об отношении к диктаторам после их смерти. И, возможно, считал невыгодным для себя лично ставить своё имя на титульной странице книги, которая после смерти Сталина могла послужить обличительным материалом против её автора. ХХ съезд КПСС, доживи до него Тарле, дал бы ему наглядное оправдание такой осторожности.
Можно назвать эту осторожность Тарле вниманием к суду потомков. Как бы то ни было, но выдающийся историк остался в памяти людей как добросовестный учёный.
И всё-таки: как Тарле на самом деле относился к Сталину? Отрицать, что Тарле не испытывал к нему какой-то благодарности, значит, прежде всего, думать плохо о самом Тарле как о человеке. Но для нас важнее историческая оценка им Сталина.
Аналогия Сталина с Наполеоном может поначалу дезориентировать. В самом деле, Тарле довольно жёстко критикует вождя буржуазной Франции за его деспотизм. Но, если вчитаться, то эта критика относится лишь к тем моментам, когда Наполеон действовал именно как буржуазный лидер. То есть деспотизм Наполеона классово обусловлен. Вождь пролетарского государства таких недостатков лишён в принципе. Что же касается личных качеств Наполеона как государственного лидера и военного стратега, то Тарле откровенно восхищается ими и явно ставит их в пример и поучение вождю Советского государства.
Но можно ли эту аналогию считать подлинным и исчерпывающим выражением всего отношения академика к Сталину? Тем более, что после написания «Наполеона» Тарле жил и творил ещё два десятилетия и наверняка мог поменять что-то в своих оценках.
Начнём с того, что Тарле не мог относиться с особой симпатией к порядкам дореволюционной России. Дело было не только в его происхождении из черты оседлости, но и в том, что в молодости он физически пострадал за свои либеральные убеждения (был тяжело ранен при разгоне политической демонстрации в 1905 году). До Октябрьской революции 1917 года явным идеалом Тарле (уже известного учёного к тому времени) был буржуазный парламентаризм западного образца. В кадетской партии он формально не состоял, но, как и многие его коллеги, был к ней идейно близок.
Революция 1917 года не могла не привести Тарле к размышлениям о том, как и почему всё так обернулось. И, опять же, будучи, прежде всего, учёным, он не мог не понимать, что сталинский режим имел какие-то объективные предпосылки для своего установления и существования. Будучи, как и большинство людей его круга в то время, гегельянцем, он осознавал, что «всё действительное разумно» в том смысле, что всё сущее - не без рациональной причины. Следовательно, большевизм и Сталин - объективное зло, причина которого заключается не в нём самом, а в состоянии всего общества.
То, что советский строй, несмотря на все полученные от него в итоге привилегии, воспринимался Тарле всё-таки, скорее всего, больше как зло, чем как добро, вряд ли можно сомневаться. Чувствовать постоянную и полную зависимость от всесильного вождя (именно таким он представлялся современникам) - не самое приятное ощущение. Тарле мог утешать себя тем, что он пытается максимально использовать это зло в интересах добра (в данном случае - исторической науки и патриотизма), но это лишь подчёркивало отношение к режиму как неизбежному злу. И опять Тарле мог находить оправдание в истории, которая говорила: диктатуры не вечны.
Тарле видел в Сталине закономерное воплощение великой революции. И сознание исторической неизбежности данного явления позволяло полностью мириться с ним.
Празден спор о том, был ли Тарле марксистом. При жизни академика его постоянно обвиняли в том, что его взгляды «немарксистские». Кстати, он умело использовал это для свободы своих научных высказываний: вы что же, ждёте от «не-марксиста» идеологической точности?! Такое поведение, немыслимое для большинства историков в те годы, немало способствовало качеству и популярности его книг.
Но несомненно, что Тарле везде и всюду искал объективных причин исторических явлений. Исторические персонажи, действующие на страницах его научных трудов, поступают как выразители тех или иных общественных тенденций и социальных интересов. Свой объективизм исследователя Тарле запечатлел не только на страницах своих трудов, но и самой жизнью, явившей собой пример взаимовыгодной службы той власти, которую академик явно никогда не считал лучшей из возможных в России.
Юность
Родился в еврейской семье. Отец принадлежал к купеческому сословию, но занимался, в основном, воспитанием детей, служил распорядителем магазинчика, принадлежавшего киевской фирме, а управлялась там его жена. Он владел немецким и даже переводил Достоевского. Мать происходила из семьи, в истории которой было много цадиков - знатоков и толкователей Талмуда. Детство и ранняя юность Тарле прошли в Херсоне, где царил межнациональный мир. В Одессе, в доме старшей сестры он познакомился с известным историком-византинистом профессором (впоследствии академиком) Ф. И. Успенским. По его совету и рекомендации Тарле был принят в Императорский Новороссийский университет. Успенский свел Тарле с его будущим учителем - профессором университета св. Владимира (Киев) Иваном Васильевичем Лучицким. На второй учебный год Тарле перевёлся в Киев. В Киеве, в 1894 г. Тарле крестился по православному обряду в Софийском соборе
Причина принятия православия была романтична: ещё со времён гимназии Тарле любил очень религиозную русскую девушку из дворянской семьи - Лелю Михайлову, и чтобы они могли соединиться, он принял православие. Вместе они прожили 60 лет. Своё этническое происхождение Тарле никогда не скрывал. Стала знаменитой его фраза «…я не француз, а еврей, и моя фамилия произносится Та?рле», произнесённая им на первой лекции по новой истории Европы и Северной Америки первому курсу историко-международного факультета МГИМО МИД СССР осенью 1951 г. («В СССР вовсю набирала обороты антисемитская кампания, не за горами было дело „врачей-убийц“, официально, по „пятому пункту“ в анкете, в МГИМО тогда не было ни одного еврея…»)
Как многие студенты Киевского университета того времени (например, как Бердяев), он пошел в студенческие кружки социал-демократов. Там Тарле делал доклады, участвовал в дискуссиях, «ходил в народ» - к рабочим киевских заводов. 1 мая 1900 г. Тарле был арестован вместе с другими членами кружка на студенческой квартире во время доклада Луначарского о Генрихе Ибсене) и выслан под гласный надзор полиции по месту жительства своих родителей в Херсон. Как «политически неблагонадежному», ему запрещалось преподавать в императорских университетах, и в казенных гимназиях. Через год его допустили к защите магистерской диссертации. Его магистерская диссертация об английском утописте Томасе Море (1901 г.) была написана в духе «легального марксизма».
В 1903 г. после прошений, поддержанных видными профессорами, полиция разрешила Тарле преподавание на почасовой основе приват-доцентом в Петербургском университете. В феврале 1905 г. он вновь был арестован за участие в студенческой сходке и снова отстранен от преподавания в университете.
18 октября 1905 года Тарле был ранен конными жандармами на митинге у Технологического института в Петербурге. Митинг был посвящён поддержке царя Николая II и его манифеста о «гражданских свободах» от 17 октября 1905 г. Манифест амнистировал всех неблагонадежных, и Тарле вернулся в Петербургский университет.
«Круг его общения составляли А. Достоевская и С. Платонов, Н. Кареев и А. Дживелегов, А. Амфитеатров и Ф. Сологуб, П. и В. Щеголевы, В. Короленко и А. Кони, Н. Рерих и И. Грабарь, К. Чуковский и Л. Пантелеев, и многие другие.»
Академическая карьера
Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1896). Дипломное исследование: «Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II» В феврале 1900 г. ученый совет Киевского университета присвоил Тарле ученое звание приват-доцента. Его магистерская диссертация (1901 г.) была издана отдельной книгой, а в 1902 г. на основе диссертации Тарле публикует в либерально-народническом журнале В. Г. Короленко «Русское богатство» статью «К вопросу о границах исторического предвидения».
В 1903-1917 (с небольшим перерывом в 1905 г.) приват-доцент Петербургского университета. В 1911 г. защитил докторскую диссертацию на основе двухтомного исследования «Рабочий класс во Франции в эпоху Революции». В 1913-1918 одновременно профессор университета в Юрьеве (Тарту). С 1918 г. Тарле - один из трёх руководителей Петроградского отделения Центрархива РСФСР. В октябре 1918 г. избран ординарным профессором Петроградского университета (а потом Ленинградского), затем становится профессором Московского университета и живёт в Москве (до ареста).
В 1921 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1927 году - действительным членом Академии наук СССР.
Удостоен Сталинской премии (первой степени) 1942 года за коллективный труд «История дипломатии», т. I, опубликованный в 1941 г. Почетный доктор университетов в Брно, Праге, Осло, Алжире, Сорбонне, член-корреспондент Британской академии (1944), действительный член Норвежской академии наук и Филадельфийской академии политических и социальных наук.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Репрессии и официальная критика
После Февральской революции 1917 г. Тарле сразу идет служить «молодой демократии». Его (как и поэта А. Блока) включают в число членов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по преступлениям царского режима. В июне 1917 г. Тарле - член Российской официальной делегации на международной конференции пацифистов и социалистов в Стокгольме.
К Октябрьской революции Тарле относится настороженно. В дни «красного террора» Тарле в 1918 г. в либеральном издательстве «Былое» публикует книгу: «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции (воспоминания современников и документы)».
Осенью 1929-зимой 1931 года ОГПУ по «Академическому делу» академика С. Ф. Платонова была арестована группа известных учёных-историков. Привлекались Ю. В. Готье, В. И. Пичета, С. Б. Веселовский, Е. В. Тарле, Б. А. Романов, Н. В. Измайлов, С. В. Бахрушин, А. И. Андреев, А. И. Бриллиантов и другие, всего 115 человек. ОГПУ обвиняло их в заговоре с целью свержения Советской власти. Е. В. Тарле в новом Кабинете предназначался, якобы, пост министра иностранных дел. Академия наук СССР исключила арестованных.
Е. В. Тарле был также обвинен в принадлежности к «Промпартии». Решением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года Е. В. Тарле был сослан в Алма-Ату. Там он начал писать своего «Наполеона». 17 марта 1937 года Президиум ЦИК СССР снял судимость с Е. В. Тарле, вскоре он был восстановлен в звании академика. Однако 10 июня 1937 года в «Правде» и «Известиях» были опубликованы разгромные рецензии на книгу «Наполеон». В частности, она была названа «ярким образцом вражеской вылазки». Несмотря на это, Е. В. Тарле был прощён, предположительно по личной инициативе Сталина.
В 1945 году журнал ЦК ВКП (б) «Большевик» подверг критике его труд «Крымская война»; репрессий не последовало и на сей раз. Автор статьи, обозначенный как «Яковлев Н.» писал, в частности: «Многие положения и выводы академика Тарле вызывают серьёзные возражения. Некоторые важные вопросы, касающиеся сущности и последствий Крымской войны, обойдены им или решаются неправильно. <…> он даёт неправильную оценку исхода войны, считая, что царская Россия в Крымской войне, по существу, не потерпела поражения».
В годы войны
В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Е. В. Тарле находился в эвакуации в г. Казани, где работал профессором кафедры истории (1941-1943) историко-филологического факультета Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина (КГУ). Одновременно с педагогической деятельностью в КГУ Евгений Викторович работал над подготовкой монографии «Крымская война» и читал для трудящихся Татарской АССР публичные лекции на историко-патриотические темы.
Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (1942).
Научная и литературная деятельность
Тарле, ещё до революции занявший ведущие позиции в российской исторической науке, позднее был одним из авторитетнейших историков СССР. В 1920-е годы Е.В. Тарле, С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков начали создавать свою «Историческую библиотеку: Россия и Запад в прошлом». Участвует в 1923 г. в международном историческом конгрессе в Брюсселе и в 1928 г. в конгрессе в Осло. В 1927 г. издал свой курс «Европа в эпоху империализма, 1871-1919 гг.», вызвавший большое раздражение у официальных марксистов. Он играл большую роль в сотрудничестве советских и французских историков, что весьма ценится последними. В 1926 г. при активном участии Тарле в Париже был создан первый научный комитет по связям с учеными СССР, в который вошли такие мировые светила, как П. Ланжевен, А. Матьез, А. Мазон, и другие крупные французские ученые.
Большое значение в исторической науке имеют работы Тарле «Европа в эпоху империализма», «Нашествие Наполеона на Россию», «Крымская война». Работам Тарле свойственна некоторая вольность в отношении к историческим фактам, допускаемая ради живого, захватывающего стиля изложения, представляющего Тарле в ряде работ скорее как исторического писателя, нежели историка. Строго исторические работы не лишены неизбежных для научных работ сталинского периода идеологических искажений, но тем не менее остаются блестящими памятниками исторической мысли, вполне сохранившими своё значение для науки.
В 1942 году вышла его работа «Гитлеровщина и наполеоновская эпоха», написанная в публицистическом жанре; книга восхваляла Наполеона как великого преобразователя и давала уничижительную характеристику Адольфу Гитлеру, доказывала «карикатурность серьёзных сравнений ничтожного пигмея с гигантом». Книжка заканчивалась утверждением: «И можно смело сказать, за всю свою великую историю никогда, даже не исключая и 1812 г., русский народ до такой степени не являлся спасителем Европы, как в настоящее время.»
Однажды на юбилее … Евгения Викторовича Тарле, Чуковский подначил Самуила Яковлевича, что даже ему не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра.
В ответ Маршак мгновенно выдал экспромт:
В один присест историк Тарле
Мог написать (как я в альбом)
Огромный том о каждом Карле
И о Людовике любом.
- По свидетельству Л. Е. Белозерской, - «из писателей он любил больше всего Достоевского».
Публикации работ
- Тарле Е.В. Сочинения в 12 томах. - М., Издательство Академии наук СССР, 1957-1962.
- История Италии в средние века 1906
- Континентальная блокада 1913
- Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I 1916
- Запад и Россия 1918
- Европа в эпоху империализма 1927
- Жерминаль и прериаль 1937
- «Гитлеровщина и наполеоновская эпоха». АН СССР. - М.-Л., 1942.
- Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств 1965
Участвуя в манифестациях левой интеллигенции, в октябре 1905 года Е.В.Тарле был тяжело ранен шашкой. Рубившему его казачку, наверное, особо приятно было бы узнать, что его жертвой стал еврей...
Несостоявшийся «космополит», так и не ставший и биографом «лучшего друга ученых»
Иосиф ТЕЛЬМАН, кандидат исторических наук, Нешер
Академик Евгений Викторович Тарле — один из выдающихся ученых России. Февральскую революцию он встретил как долгожданную «весну обновления». В мае 1917 года был назначен членом Чрезвычайной следственной комиссии по делу бывших царских министров, с отчетом этой комиссии выступал на заседании Временного правительства. К Октябрьской революции отнесся резко отрицательно. Но эмигрировать отказался, отклонив очень лестные предложения принять кафедру и стать профессором в ряде университетов Франции, включая Сорбонну.
Приведем краткую биографическую справку. Евгений Викторович Тарле родился 8 ноября 1874 года в Киеве, в зажиточной еврейской семье купца 2-й гильдии. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1896 год). В 1903-1917 г.г. — приват-доцент Петербургского университета. В 1903-1918 гг. одновременно профессор университета в Юрьеве (Тарту). С 1917 года профессор Петроградского, а затем Ленинградского и Московского университетов.
В 1909 году был опубликован фундаментальный труд Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху революции», защищенный затем в Петербургском университете в качестве докторской диссертации. Он был отмечен Академией наук специальной премией как лучшее научное исследование.
Монография Евгения Викторовича «Континентальная блокада», опубликованная в 1913 году, сразу же привлекла внимание ученых многих стран.
После Октябрьской революции Тарле оставался в Петрограде, продолжал работать, получая профессорский паек — фунт овса в день. Постепенно Тарле встал на путь признания Советской власти, но далеко не сразу согласился сотрудничать с ней. Ученый продолжал свои исследования по истории Франции и России, по истории международных отношений. Книги, научные статьи Евгения Викторовича широко публиковались в СССР, а также во Франции, Англии, Германии, в США и других странах. В 1921 году Тарле избирают членом-корреспондентом Академии наук, а в 1927-м — действительным членом Академии. В 1928 году на Всемирном конгрессе историков в Осло Тарле был избран в состав Международного комитета исторических наук.
На лекциях Тарле в Ленинградском университете, профессором которого он был многие годы, в аудитории невозможно было найти свободное место. Он был воистину любимцем студентов.
Успешную научную и педагогическую деятельность Е.В.Тарле прервал арест 29 января 1929 года. ОГПУ предъявило ему и ряду других ученых обвинение в принадлежности к контрреволюционному монархическому заговору. Это было связано с так называемым «академическим делом». Вот как оно возникло. В январе 1929 года состоялись выборы в состав Академии наук СССР. Трое коммунистов, философ А.М.Деборин, историк Н.М.Лукин и экономист В.М.Фриче при голосовании были забаллотированы, получили много черных шаров. Итогами выборов был возмущен Сталин. Генсек увидел в этом вызов со стороны старой научной интеллигенции власти коммунистов, его личному авторитету, советскому режиму. Этому вполне обыденному для научных кругов событию была дана политическая оценка. Вопрос об итогах выборов был рассмотрен на заседании Совнаркома СССР, в котором участвовали некоторые академики. Было принято решение немедленно пересмотреть результаты выборов и провести новые.
Это требование напуганные и присмиревшие академики выполнили. Но Сталин решил преподать им урок. Была создана комиссия ЦК ВКП (б) и Совнаркома для проверки деятельности Академии. Она тщательно искала компромат на многих ученых, стремилась разоблачить их «контрреволюционное нутро». Комиссия обнаружила, что в учреждениях Академии много «классово чуждых элементов», злобных врагов Советской власти. Затем создали новую комиссию уже для чистки Академии. Ее возглавил член коллегии ОГПУ Я.Петерс. Из 259 академиков и членов-корреспондентов были изгнаны 71, в основном, ученые гуманитарного профиля. Многие из них были арестованы по так называемому «академическому делу». Более года шло следствие по этому делу. 70-летнего академика С.Ф.Платонова и его сподвижников, в числе которых был Е.В.Тарле, ОГПУ обвинило в намерении свергнуть Советскую власть, образовать Временное правительство с последующей реставрацией монархии в России. Возглавить это правительство по версии ОГПУ, должен был академик Платонов. Евгению Викторовичу Тарле в этом кабинете, как блестяще владеющему основными европейскими языками, предназначался пост министра иностранных дел.
Напоминаем: все фотографии в галерее кликабельны — нажав на превью, вы можете увидеть их в полном объеме. Открыв первую из иллюстраций в галерее, далее вы можете листать их при помощи стрелочек и читать подписи к тем, которые сопровождены текстом
Участвуя в манифестациях левой интеллигенции, в октябре 1905 года Е.В.Тарле был тяжело ранен шашкой. Рубившему его казачку, наверное, особо приятно было бы узнать, что его жертвой стал еврей… Евгений Викторович Тарле (27 октября 1874, Киев — 5 января 1955, Москва) На первом издании «Наполеона», ставшем одной из настольных книг Сталина, имеется немало пометок диктатора, считавшего себя фигурой большего масштаба, чем французский император Самый знаменитый труд академика Тарле переиздается по сей день Могила Е.В.Тарле на Новодевичьем кладбище Мемориальная доска на доме, где прошли самые тревожные годы жизни академика
Следствие по «академическому делу» продолжалось больше года. За ним внимательно следил тогдашний председатель ОГПУ Менжинский, который регулярно докладывал Сталину о каждом «вскрытом факте». В это время Тарле находился в тюрьме «Кресты». Сам Сталин не принимал всерьез угрозу переворота, который якобы собирались осуществить академики. Поэтому на открытое судебное разбирательство он не пошел. Во многом по этой причине и приговор этим ученым оказался довольно мягким — вопреки ожиданиям общественности. Всем им по приговору суда предстояло провести несколько лет в ссылке в таких городах как Самара, Уфа, Астрахань и Алма-Ата. Как раз в Алма-Ату решением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года был сослан Е.В.Тарле. Именно там у него возник замысел и он начал работать над своей блестящей книгой о Наполеоне. Книгой, отличающейся раскованностью, неординарным подходом к оценке фактов, трактовкой сложных проблем истории.
В октябре 1932 года Тарле возвратился из ссылки в Москву. Его почти сразу же принял нарком просвещения, А.С.Бубнов. У них состоялась обстоятельная беседа по поводу преподавания истории в учебных заведениях. 16 мая 1934 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о преподавании гражданской истории в школе. Это постановление, которое готовилось более двух лет, сыграло важную роль в судьбе Тарле и его коллег-историков, подвергшихся репрессиям. Тарле писал своей знакомой поэтессе Т.П.Щепкиной-Куперник:
«Был только что принят в Кремле. Блестящий, очень теплый прием. Обещали все сделать, тоже хотят, чтобы я работал. Сказали: «Такая силища, как Тарле (т.е., я), должен работать».
Евгений Викторович написал свою книгу «Наполеон» за довольно короткий срок, работал с большим творческим подъемом, как говорится, на одном дыхании. Из-под пера ученого вышел подлинный шедевр.
О Наполеоне написаны сотни книг, однако не только в России, но, пожалуй, и в других странах, включая Францию, мало есть работ, которые могли бы соперничать с трудом советского историка. Это касается научного уровня, глубины и широты исторического исследования, а также художественной формы. Биография великого полководца читается как интереснейший роман.
Заведующий редакцией издательства А.Тихонов-Серебров писал А.М.Горькому:
«На днях высылаю вам книгу Тарле «Наполеон» из серии «Жизнь замечательных людей». Работали мы над этим автором 4 месяца. Книжка вышла интересная, но очень раскованная. Хозяин сказал, что он будет ее первым читателем. А вдруг не понравится? Амба!»
Книга «хозяину», Иосифу Сталину, понравилась, но он не спешил об этом сообщить. В политическом портрете великого полководца и государственного деятеля «вождь народов» увидел многие черты, которые были свойственны ему самому — упорство в достижении цели, умение бороться за власть, жестокость и стремление к преобразованиям.
Путь Наполеона к императорской короне в чем-то напоминал Сталину его собственную борьбу за утверждение диктатуры. Для сына сапожника, бывшего семинариста было очень лестно сравнить себя с императором Франции и найти что-то общее.
Книга Тарле «Наполеон» вышла в памятном 1937 году и сразу же приобрела широкую популярность. Однако над автором ее сразу же вновь нависла реальная опасность ареста. 10 июня 1937 года одновременно в «Правде» и «Известиях» появились две резко отрицательные рецензии на этот труд Тарле. Эта книга выдавалась за «яркий образец вражеской вылазки» и, казалось, над ученым нависла угроза расправы. В страшном 1937 году он мог ожидать ареста, суда и даже расстрела. Автором рецензии в «Правде» был А.Константинов, в «Известиях» — Дм.Кутузов. Фамилии эти ничего не говорили, среди известных историков и публицистов такие не значились. Без сомнения, это были псевдонимы людей, которым дали партийное поручение разгромить книгу ученого. Поводом для появления этих рецензий, возможно, послужило то обстоятельство, что книга «Наполеон» вышла под редакцией Карла Радека. К тому же о труде ученого, о его большом вкладе в историческую науку написал обстоятельную статью Николай Бухарин. Как появились статьи о книге Тарле в «Правде» и «Известиях»? Возможно, это произошло по инициативе кого-нибудь из партийного руководства. Однако есть основания предполагать, что это было сделано по прямому указанию генсека, чтобы испугать ученого, сделать его готовым выполнить любой заказ «великого вождя». Эта версия наиболее вероятная, если учесть характер Сталина, его коварство и жестокость. В то время за проработкой в печати чаще всего следовал арест…
…Ученый в тот день невольно вспомнил свой арест в 1929 году, ссылку в Алма-Ату. Теперь можно было ждать чего угодно. Ночью долго ворочался в постели, сон не шел. Тогда аресты производились в любое время суток, но чаще всего все-таки ночью. Наконец, приняв изрядную дозу снотворного, Евгений Викторович заснул. Его разбудил резкий телефонный звонок. Он поднялся с постели, глянул машинально на часы — 3 часа ночи. Поднял трубку. Услышал незнакомый мужской голос, который произнес — с вами будет говорить товарищ Сталин. Генсек поздоровался и сказал:
— Вы, наверное, немного огорчены. Не стоит огорчаться. Статьи о вашей книге «Наполеон» не соответствует оценке, которую дает руководство партии. Будет дано разъяснение. Всего вам хорошего, товарищ Тарле!
Уже утром следующего дня обе центральные газеты так же дружно поместили опровержение своих же публикаций. Гроза прошла стороной. В том же 1937 году Тарле вернули звание академика, которого он был лишен после ареста в 1929 году. Занесенный над головой Тарле топор был отведен.
В конце 30-х годов, когда ощутимой стала угроза надвигающейся войны, Тарле вплотную занялся проблемами военной истории России. Вышла в свет его книга «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год». Публикуются работы о Нахимове, Ушакове, Кутузове и др.
В период Второй мировой войны Тарле написал несколько книг, посвященных историческому прошлому России. Он завершает фундаментальное исследование «Крымская война» в двух томах.
Научную работу Евгений Викторович сочетал с широкой общественной деятельностью. Его в то время можно было увидеть не только в студенческой аудитории, но и в воинских частях, где он выступал с лекциями о человеконенавистнической сути и преступлениях фашистов.
После войны Сталин хотел получить книгу об этой войне, написанную Тарле. И, естественно, чтобы в ней прославлялась выдающаяся роль генералиссимуса, «великого вождя народов». И, конечно, чтобы она читалась еще с большим интересом, чем книга о Наполеоне.
В конце 1946 года академика пригласил к себе А.Жданов. Поинтересовавшись творческими планами ученого, он прямо дал заказ на создание такой книги. Тарле понимал, что устами Жданова говорит сам Иосиф Виссарионович. Однако ученый под разными предлогами уклонялся от этого «почетного поручения».
В конце 40-х — начале 50-х годов в работах некоторых советских историков активно распространялась версия, что Сталин (по примеру Кутузова) специально заманил немцев аж под Москву, чтобы затем их разгромить. Впервые эту версию изложил сам Сталин. В своем письме полковнику Разину он подчеркнул, что историки и специалисты в области военного искусства не обратили должного внимания на изучение такой стратегической операции как контрнаступление. Оно блестяще было осуществлено Кутузовым в период войны 1812 года. В связи с этим критике стала подвергаться книга Тарле, опубликованная в предвоенные годы «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год». Ученого обвинили в том, что он недооценивал роль Кутузова, преимущества его стратегии, принесшей победу русским войскам.
В атаку на ученого ринулся С.И.Кожухов — в то время директор музея «Бородино». Его имя ничего не говорило историкам. Правда, в 1942 году он пытался опубликовать книгу об Отечественной войне 1812 года, даже направил рукопись секретарю ЦК и Московского комитета ВКП (б) А.Щербакову. Но она была подготовлена на таком низком уровне, что несмотря на большую потребность в то время в подобных книгах, ее не издали. Теперь статья Кожухова (вряд ли он писал ее самостоятельно) «К оценке роли Кутузова в Отечественной войне 1812 года» была опубликована в журнале «Большевик» — теоретическом органе ЦК ВКП(б). Он подверг книгу Тарле «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год» уничтожающей критике. Кожухов обвинил ученого в том, что тот использовал для написания своего труда сомнительные западные источники, в то же время игнорировал отечественные. Как раз в тот момент шла кампания борьбы с космополитами, и использование иностранной литературы рассматривалось как проявление антипатриотизма, чуть ли не измена родине. Журнал «Большевик» обвинил Тарле в стремлении принизить подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Вскоре после публикации статьи Кожухова на историческом факультете Ленинградского университета состоялось заседание Ученого совета, на котором книга Тарле подверглась зубодробительной критике. Наиболее ретивые коллеги академика, ранее заискивающие перед ним, нашли удобный момент, чтобы закрепить свои позиции в создавшейся ситуации. В защиту Тарле выступила только академик Нечкина, доказавшая несостоятельность критики со стороны Кожухова. После публикации статьи в «Большевике» прошли собрания и заседания в МГУ, в Институте истории Академии наук СССР, в других вузах и научных учреждениях, где клеймили Тарле за низкопоклонство «перед иностранщиной».
Резкой критике был подвергнут и двухтомный труд ученого «Крымская война», все за то же обилие использованных иностранных источников.
В обстановке развернувшейся новой травли Тарле чувствовал себя потерянным. Встретившийся с ним в те дни писатель Александр Борщаговский так описал свои впечатления:
«Я нашел не уверенного в себе, ироничного человека, обладавшего особой духовной силой, что угадывалось в его классических трудах, таких талантливых, что именно Фадеев решил принять Тарле в Союз писателей, минуя все формальности. Точнее сказать все достойнейшее было при нем — острота ума, сарказм, широта взглядов, но истязали его обида на оскорбительные статьи догматиков, принявшихся лягать его работы».
Евгений Викторович не знал, кто вдохновитель его травли, ждал помощи и спасения от Сталина. И Тарле обратился с письмом к «лучшему другу советских ученых». Он просил его оказать помощь в публикации ответа Кожухову на страницах того же журнала «Большевик». Сталин, по-видимому, все еще надеялся, что Тарле и о нем создаст такую же книгу, какую он написал о Наполеоне. «Вождь партии и советского народа» дал соответствующее указание, и ответ ученого был опубликован. В нем Тарле на конкретных примерах и фактах показал надуманность обвинений и отсутствие объективности в статье Кожухова. После публикации ответа Тарле журналом «Большевик» гонители ученого моментально замолкли.
Трудно сказать, как бы складывались отношения Тарле со Сталиным, но смерть диктатора избавила академика от необходимости не только писать, но и думать о создании биографии вождя и генералиссимуса. Тарле ненамного пережил Сталина — он скончался 5 января 1955 года — на 81-м году жизни.
(1874-1955) Магистерская диссертация «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с эк. состоянием Англии его времени».
В марксизме Тарле использовал только экономическое учение, а идею диктатуры пролетариата отвергал. Прогноз Маркса о грядущей победе пролетариата Тарле считал несостоятельным.
В годы революции, читал курс лекции по истории России XIX в., цикл лекций «Падение абсолютизма в Западной Европе» (убеждал слушателей в необходимости довести борьбу против русского абсолютизма до победы, как это было сделано на Западе).
Однако, не вступал ни в какие партии, хотя и примыкал по убеждениям к меньшевистской фракции РСДРП.
После 1905-1907 гг. начал исследовать историю рабочего класса. «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» - докторская.
«Континентальная блокада» (2-й том «Эк. жизнь Италии в царствование Наполеона I»). Первым обобщенно исследовал наполеоновскую континентальную блокаду; доказал, что замысел Наполеона экономически задушить Англию общеевропейской блокадой под эгидой Франции был обречен на неудачу как насилие над экономикой, искусственная помеха хоз. и торговым потребностям разных стран.
С начала 1МВ сосредоточивается на изучении международных отношений, растет его интерес к истории России. В статьи 1914-1916 гг. «Из истории русско-германских отношений в новейшее время», «Герцен и германская государственность», «Франко-русский союз».
Февр. революцию 1917 г. - долгожданное избавление России от абсолютизма, редактировал вместе с П.Е.Щеголевым и В.Л.Бурцевым историко-революционный журнал «Былое».
В 1918-1919 гг. книга «Запад и Р.» (о крайностях якобинского террора), посвещенная «мученической памяти» министров Временного правительства А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина, убитых революционными матросами.
Отказался эмигрировать (и места профессора в парижской Сорбонне).
«Падение абсолютизма в Западной Европе и России», «Военная революция на западе Европы и декабристы», «Граф С.Ю.Витте». «Европа в эпоху империализма. 1871-1919 гг.» раскрыл здесь причины, механизм развязывания и ход мировой войны. Доказал, что ответственны за войну «все великие державы - и те, которые объявили войну, и те, которым ее объявили», включая Р. Обличал германский милитаризм.
1928-1929 гг. советские историки во главе с Покровским клеймили Тарле как «классового противника» за мнимую «защиту фр. и английских империалистов», был арестован и провел больше полутора лет в тюрьме.
В 1938 «Нашествие Наполеона на Р.». Впервые в советской историографии война 1812 г. трактовалась как отечественная. Гл. идея: непобедимости русского народа в борьбе с агрессорами. «Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом». Именно рука народа, подчеркивал Тарле, «и нанесла величайшему полководцу всемирной истории непоправимый, смертельный удар».
В 1939 - «Талейран». Выставил основоположника буржуазной дипломатии как «отца лжи и патриарха предательства».
В годы ВОВ пишет патриотическую публицистику, ряд глав для «Истории дипломатии», монографию «Крымская война» - с марксистских позиций и выявил ее соц.-эк. предпосылки, но не в ущерб политическим, военно-стратегическим, дипломатическим и прочим факторам.
Монографии о трех экспедициях в Средиземное море: «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг», «Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798-1800 гг.)», «Экспедиция адмирала Сенявина в Средиземное море (1805-1807 гг.)». Исследовал боевые операции рус. флота, но приукрасил внешнюю политику России.
После войны по указанию Сталина, ему было предложено создать трилогию «Россия в борьбе с агрессорами в XVIII-XX вв.» - о разгроме нашествий Карла XII, Наполеона и Гитлера. Первый том- «Северная война и шведское нашествие на Р.». В «Северной войне» изобразил главными творцами истории народные массы. Такое представление не понравилось заказчику трилогии. Издание «Северной войны» было задержано. Стали требовать книгу о нашествии Гитлера с естественным восхвалением личности Сталина. За ослушание обвинения в принижении роли Кутузова. Тарле подготовил статья «Кутузов - полководец и дипломат», В ней Тарле идеализировал Кутузова, хотя и провозгласил, как и прежде, истинным победителем Наполеона русский народ, который «нашел в Кутузове достойного представителя». Но нападки не прекратились.
Умер 6 января 1955 г. за работой над статьей «Наша дипломатия». Книгу о гитлеровском нашествии он так и не начал писать и вообще ни в одной из своих монографий Сталина не восславил...
В основном историк Запада, он и по истории России оставил наследство. Это -«морская» трилогия, и монографии «Крымская война», «Северная война», «Русский флот и внешняя политика Петра I», Очерк развития философии истории, Запад и Россия, Европа в эпоху империализма, Наполеон, Нашествие Наполеона на Россию, Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств, фрагменты исследования «Внешняя политика России при Екатерине II», биографии Кутузова, Витте, Бакунина, о Переяславской раде 1654 г. и декабристах, о Петре I, Суворове, Пушкине, Лермонтове, Толстом, Достоевском, Милютине, о царствовании Ал. I, Николая I, Ал. II, Ал. III, Николая II.
Он заключал, что классовая борьба между пролетариатом и буржуазией в Европе накануне 1МВ смягчилась («Европа в эпоху империализма»); недооценил силу воздействия общественного мнения на политику царизма в Восточном вопросе («Крымская война»); слабо разграничивал планы царского правительства и результаты побед русского оружия, что воспринималось как оправдание агресс. сущности войн, которые вела Р. («Наполеон», «морская» трилогия, «История дипломатии»). Нередко сверх меры возвеличивал исторических лиц (Екатерину II) или принижал их (адмирал Мордвинов), предвзято доказывал, что Ф.Ф.Ушаков как флотоводец выше Г.Нельсона.
36. Советская историография: общая характеристика.
1. Методологический манизм (против плюрализма). Единственно верное учение – марксизм-ленинизм. Идея признания ведущей роли социально-экономического фактора. Марксистская методология заключалась в том, что историк должен был исходить из сталинской пятичленки: существует 5 социально-экономических формаций – первобытно-общинная => рабовладельческая => феодальная => капиталистическая => коммунистическая.
· Представления о классовой борьбе, которые пронизывают все сферы общества.
· Классовый подход.
· Стремление найти признаки в истории.
2. Постоянная корректировка научной деятельности в соответствии с политической конъюнктурой.
Были запрещены темы: массовые репрессии, запрет исследования персоналий.
Бухарин, Зиновьев, Троцкий = «двурушники», «оппортунисты», «ревизионисты». Все те, кто подрывал истоки. Сакральные понятия – гегемония пролетариата, единство партии.
3. Специфические формы аргументации. «Цитата, а не источник более весомая», – произведения классиков марксизма-ленинизма. Надо было иметь надлежащее положение из Ленина и Маркса.
Больших высот достигает искусство истолкования - марксистская экзегетика. Тактики:
· Выделить явление в широком и узком смысле.
· Все высказывания классиков определяются временным контекстом (в истории ориентируются на изученность => некоторые детали неизвестны) => нельзя абсолютизироваться в цитатах. Для Ленина – якобинцы это внешнее проявление революционности. Был прав!!
В.Г Ревуненков в 1966 г. книга «Марксизм и проблема якобинской диктатуры». Доказывает, что якобинцы не были самой левой партией. Было воспринято как покушение на ленинский авторитет (Ленин сравнивал большевиков с якобинцами), оппоненты: Манфред, Далин. В 1970 г. обсуждение концепции Ревуненкова, осудили (но без последствий).
4. Ограниченный доступ к источникам. Существовали Спецхраны: разглашать эти документы, подробно излагать нельзя. Иностранная литература, периодика. Все политические трактаты, биографии политических деятелей новейшего времени.
Архивы делились на 2 категории: государственные и архивные.
Чтобы работать в партийном, необходим был партбилет.
5. Особенное положение истории партии среди других историй.
На первом месте – история КПСС (min курс 120 часов, историки - 180 часов), на втором – история СССР, на третьем – всеобщая история. Лекции населению. Должны были надзирать за студентами. Историков партии историческая общественность не любила. Их было очень много.
6. Централизация исследований и жёсткий партийный контроль над преподавателями, исследователями. Программы составляет МГУ. Отдел науки ЦК КПСС. Все темы работ согласовались. Средство борьбы с неправильными высказываниями – создание коллективных трудов.
7. Изолированность от мировой науки. Изолированность от мировой исторической науки (спецхраны). Очень ограниченное число международных исторических конференций. 1965 г. - конференция посвященная 20летнему окончанию Второй мировой войны. Чтобы опубликовать что-либо за границей требовалось специальное разрешение. Зарубежные историки критиковались (→ буржуазные фальсификаторы, буржуазные объективисты, прогрессивные ученые - к соц.-дем. партиям).
8. Мало споров, дискуссий (следствие идеологического монизма).
Зарубежные русисты хорошо относились к советским историкам, приезжали на стажировки.
37. «Буржуазно-дворянские» историки в 1920-е - начале 1930-х годов. Академическое дело.
(здесь же можно рассказать про Тарле, Туган-Барановского)
Существовали историки старой школы. После революции: голод, бытовые проблемы, потеря соц.статуса. Трудности с архивами, библиотечными фондами. Значительная часть историков эмигрирует. Отношение к советской власти - отрицательное.
Готье родился в 1873 г. учился в московском университете. С 1902 г. преподавал. В 1917 г получил должность профессора. К концу жизни стал академиком.
Продолжали прежние сюжеты, источники, доделывали работы (например, Лапо-Данилевский занимался методологией).
1922 г. группу обществоведов отправляют за границу.
Тенденция движения к марксизму присутствовала.
Петрушевский 1928 г. - «Очерки из экономической истории средневековой Европы». Использовал маркистский инструментарий. Обвинили в антимарксизме. Марксисты не хотели упускать монополию. Покровский стремился отстранить историков старой школы.
Организация немарксистов историков: Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук - с 1923 г. во главе Петрушевский.(РАНИИОН).
Журналы: Анналы, .. Многие из них позже встроились в систему.
Академическое дело: Ноябрь 1929 г. в газетах информация, что в библиотеке АН найдены подлинники отречения Николая II, переписка Николая с Грековым, архив ЦК кадетов. Скандал. Поставлено в вину С.Ф.Платонову. Пришлось писать объяснительную → документы попали в годы гражданской войны. Создана специальная коммисия. Платонов подал в отставку. В январе 30го аресты - (Платонова, Лихачева, Тарле, Романова, Готье). Всего по этому делу арестовано более 100 человек. Обвинения: контакты с белой эмиграцией., хотели восстановить монархию. Дело вел Массевич (убедил Платонова признаться). Платонов подтвердил обвинения. Академиков исключили из АН. Наказывать решили во внесудебном порядке - высылка (Платонов и Готье в Самару, других в Астрахань, Алма-Ату). В ссылке умер Платонов., вскоре Лихачев. С Тарле и Грекова судимость была снята. Вернулась примерно половина.
Интерпретация → 3 версии:
Действительно создали антисоветскую организацию, существовали антисоветские настроения;
Антикоммунистический-государственный заговор коммунистических историков против немарксистов. Платонов и др. выступали за истинно русскую историческую науку, инициаторы - историки-марксисты;
Инициаторы кампании - ОГПУ. Пользовались услугами историков-марксистов.
Была своя заинтересованность у Покровского и его окружения, а органы ОГПУ выполняли задачи создания единой системы преподавания истории.
После 60го реабилитированы, старались не упоминать.
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ (1876-1955)
Русский историк, академик. Родился в Киеве. Учился в 1-й херсонской гимназии. В 1896 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Работал под руководством профессора И. В. Лучицкого. Занимался изучением крестьянского вопроса, написав при окончании университета исследование “Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II”. Затем обратился к истории общественной мысли и подготовил магистерскую диссертацию “Общественные воззрения Т. Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени”, защищенную в 1901 г. Революционные события в России оказали существенное влияние на тематику исследований Тарле, приступившего к изучению истории французского рабочего класса. Итогом явилась докторская диссертация “Рабочий класс во Франции в эпоху революции”. Интерес к экономической истории европейских стран определил появление других фундаментальных трудов: “Континентальная блокада”, “Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I”. В этих работах Тарле использовал большое число источников из архивов Франции, Англии, Голландии и других стран. Профессор Юрьевского университета (1913-1918) и Петроградского университета (с 1917 г.), Тарле с неизменным успехом читал курсы лекций по различным вопросам истории нового времени. В канун и в период первой мировой войны 1914-1918 гг. усиливается интерес ученого к истории международных отношений и внешней политики России, которому он остался верен на протяжении последующих десятилетий.
В обстановке активизировавшихся сталинских репрессий, направленных против интеллигенции (конец 20-х- начало 30-х гг.), Тарле был привлечен к фальсифицированному так называемому “Академическому делу” академика С. Ф. Платонова, а также обвинен в принадлежности к “Промпартии”, процесс над которой был тоже фальсифицирован. После ареста и пребывания в заключении Тарле был сослан в Алма-Ату, где находился до 1932 г.
В 20-х гг., возвратившись к изучению истории французского рабочего класса, Тарле публикует монографии “Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. От конца Империи до восстаний в Лионе” и “Жерминаль и Прериаль”, основанные на обширном архивном материале. Со 2-й половины 30-х гг. начинают выходить многочисленные работы Тарле по истории внешней политики Франции и России и русско-французских отношений: “Наполеон”, “Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год”, “Талейран”, “Крымская война”, “Нахимов”, “Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798 - 1800 гг.)”, “Северная война и шведское нашествие на Россию” и др. В 1932-1948 гг. Тарле - профессор Ленинградского университета. Он один из авторов и редактор учебника по новой истории для вузов (1938-1940).
С первых дней Великой Отечественной войны Тарле активно включился в пропагандистскую и публицистическую деятельность. Он выступает с лекциями во многих городах страны, публикует серию статей в газетах и журналах, проникнутых чувством глубокого патриотизма и веры в неизбежную гибель гитлеровских захватчиков. Тогда же он входит в состав Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Выступает на Всемирном конгрессе деятелей культуры в защиту мира (Вроцлав, 1948). Участник многих международных конгрессов историков, Тарле был избран почетным доктором университетов в Брно, Праге, Осло, Алжире, Сорбонне, членом-корреспондентом Британской академии для поощрения исторических, философских и филологических наук, действительным членом Норвежской академии наук и Филадельфийской академии политических и социальных наук. Историк с мировым именем (десятки его работ переведены на иностранные языки). Тарле был крупным стилистом и литературоведом.