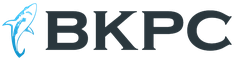Академик петр паллас о путешествии на урал. Паллас Петр Симон. Биография Петр симон паллас биография
Знаменитые путешественники Скляренко Валентина Марковна
Петр Симон Паллас (1741 г. – 1811 г.)
Петр Симон Паллас
(1741 г. – 1811 г.)
Сколь ревностно я в моей науке справедливость наблюдаю (да, может быть, к моему несчастию, и слишком), столь во всем оном описании моего путешествия я не выступаю из нее ни наималейше: ибо, по своему понятию, взять вещь за другую и уважить больше, нежели какова она есть в самом деле, где прибавить, а где утаить, я считал за наказания достойный поступок против ученого свету, наипаче между натуралистами…
П. С. Паллас. Предисловие к 4-му тому «Путешествия по разным провинциям Российской империи»
«…множество наблюдений Палласа являются подлинными научными открытиями – географическими, геологическими, биологическими или этнографическими. Бросается в глаза необыкновенная наблюдательность Палласа. Наряду с ней – отсутствие предвзятости, какая-то особенная беспристрастность, вытекающая из страстного и глубокого стремления к объективной истине».
Б. Г. Кузнецов. «Очерки истории русской науки».
Выдающийся ученый-энциклопедист и путешественник. Немец по происхождению, 43 года проработавший в России. Руководитель и участник экспедиции Петербургской академии наук по «провинциям Российского государства». Член Королевского общества Британии, Императорской Римской академии естествоиспытателей. Имя Палласа присвоено рифу у берегов Новой Гвинеи, вулкану на Курилах, районному центру Палласовка в Волгоградской области.
Екатерина II стремилась как можно лучше узнать доставшуюся ей огромную страну. С этой целью, пользуясь проектами М. В. Ломоносова, она укрепила Географический департамент Академии наук и привлекла для работы в нем нескольких талантливых ученых из-за границы. Среди них был и Петр Симон Паллас, несмотря на молодые годы, заслуживший к тому времени репутацию серьезного исследователя.
Паллас принадлежал к тому достаточно распространенному в XVIII–XIX вв. типу ученых, для которых основополагающей чертой характера была страсть к изучению (в данном случае это касалось естественных наук). Никогда не прекращающаяся работа являлась для него единственно возможной формой существования. Отсюда – огромный вклад во многие научные области, в том числе и в географическую науку, хотя путешествовал он не по экзотическим странам, куда еще не ступала нога европейца, а по просторам Евразии.
Петр Симон Паллас родился 22 сентября 1741 г. в Берлине. Его отец, профессор хирургии Берлинской медицинской коллегии, в молодости служил полковым доктором, благодаря чему стал хорошим практическим врачом. Он сумел привить сыну страсть к естественным наукам. Его заслугой стало и прекрасное знание Палласом-младшим латыни и английского языка. А благодаря матери-француженке Петр Симон уже в раннем возрасте свободно говорил по-французски.
Недюжинные способности ребенка проявились очень рано. Еще в гимназии Петр Симон ставил опыты над чувствительностью гусениц, разработал собственную классификацию птиц по форме их клювов. Сначала его образованием руководил отец. Однако уже в тринадцатилетнем возрасте мальчик поступил в Берлинский медико-хирургический коллегиум, где проучился 4 года, затем по настоянию Палласа-старшего отправился в Галле, а потом в Геттинген и Лейден. Таким образом, юноша получил наилучшее по тем временам образование в крупнейших научных центрах Европы. Защитив в Лейдене докторскую диссертацию на тему «О врагах, живущих в теле животных», написанную по-латыни, Паллас в 1761 г. отправился в Англию, где работал в научных учреждениях и завязал дружескую переписку с некоторыми выдающимися учеными. Здесь он совершил несколько небольших поездок по побережью для изучения местной флоры и фауны.
Однако Англию пришлось покинуть, так как отец выхлопотал для Петра Симона место врача в армии. С грустью Паллас подчинился и отправился в Пруссию. К счастью для него, война длилась недолго, и молодой человек вернулся к научным занятиям в Берлине, а потом уехал в Голландию в качестве посланника в Гааге. Здесь он предложил принцу Оранскому, штатгальтеру Голландии, проект экспедиции в Индию и Америку, но из-за различных препятствий она так и не состоялась. Палласу суждено было стать путешественником по иным – суровым, неизвестным и непонятным западным европейцам территориям – необъятной России.
К 1767 г. молодой ученый-натуралист приобрел значительную научную известность, поэтому, когда русское правительство обратилось к лейпцигскому профессору Лудвигу с просьбой порекомендовать Российской академии наук ученого-натуралиста, тот без колебаний назвал кандидатуру Палласа. Вначале Паллас испугался дикой, как считали на Западе, страны, но потом все же принял предложение – ведь средств для продолжения научной работы в Германии у него не было. С того времени и по 1810 г. жизнь ученого была посвящена русской науке.
Незадолго до этого Паллас женился. В июне 1767 г. супруги выехали в Россию и уже 30 июля прибыли в Петербург. Здесь Паллас в роли «ординарного члена и профессора натуральной истории» с жалованьем в 800 рублей сразу же приступил к работе. В это время в самом разгаре была подготовка к серии масштабных экспедиций по наблюдению за прохождением Венеры через диск Солнца и изучению территорий Российской империи. Одиннадцать ученых и несколько студентов должны были по определенному плану изучать огромную страну и составить описания своих путешествий. По числу ученых готовилось 11 экспедиций, пять из которых имели географическое назначение и были поделены на три оренбургские и две астраханские. Фактическим руководителем оренбургских отрядов стал Паллас. Менее чем за год немецкий ученый изучил русский язык, составил «Генеральный план путешествия» и наметил маршруты всех трех отрядов на период с 1768 по 1773 г.
Сам Паллас стал во главе одного из отрядов. Его сопровождали капитан Николай Рыжков, трое студентов (двое из них, В. Зуев и Н. Соколов, со временем стали известными учеными-естествоиспытателями), рисовальщик, чучельник, егерь и кухарка. Не испугалась трудностей путешествия и жена ученого, вызвавшаяся ехать вместе с ним. С собой путешественники везли библиотеку и лабораторное оборудование.
В таком составе 21 июня 1768 г. экспедиция по Московскому тракту направилась в Поволжье и к 1769 г. обследовала Самарскую, Оренбургскую, Уральскую, Уфимскую и Пермскую губернии. 1771 г. застал Палласа в Челябинске. Отсюда через Ишимскую степь он направился к Омску, потом двинулся к реке Вилюй, обследовал Тигерекские горы, посетил Байкал, Семипалатинск, Змеиногорск, Иркутск, Кяхту, Удинск и Читу.
Свои наблюдения Паллас в тот же день записывал в дневник, так как считал, что записи, сделанные по памяти, не могут объективно отражать увиденное. Кроме того, ученый отмечал в дневнике все детали, какими бы малозначащими на первый взгляд они ни были. На основании этих записей позже он подготовил несколько книг, причем постарался, чтобы первоначальные впечатления не были искажены. А природная наблюдательность и огромная эрудиция автора сделали их воистину неоценимым источником сведений о природных ресурсах Российской империи и обычаях народов, ее населяющих.
Во время путешествий Паллас обогатил науку многими находками, до сих пор являющимися хрестоматийными примерами в геологии, зоологии, палеонтологии и т. д. На берегу Енисея он нашел осколок болида (гигантского метеорита) в сорок пудов веса, состоявший из чистого железа. Он был доставлен в Академию наук. Теперь это музейный экспонат, широко известный в мире под названием Палласово железо. На реке Вилюй ученый с помощью якутов в вечной мерзлоте обнаружил тело ископаемого носорога и описал этот факт в статье, в том же году напечатанной в «Записках» Академии наук.
Будучи страстным натуралистом, Паллас особое внимание обращал на флору и фауну изучаемых земель. В Поволжье первым среди ученых он описал сайгака – дикую козу, в то время обитавшую не только в полупустынях Средней Азии, но и в верховьях рек Самары, Сока и Кинели. На озере Байкал Паллас открыл рыбу голомянку, которая живет только в водах этого озера. А когда Зуев с севера, куда он был отправлен для исследований, привез белого медвежонка, Паллас «мог сделать описание сего зоологами еще не описанного зверя».
Очень интересны у Палласа изображения жизненного уклада татар, башкир, мордвы, калмыков, бурят, яицких казаков, китайцев. С поразительной дотошностью описывал он их обычаи. Так, например, у казаков несостоятельного должника заимодавец водил по деревне за веревку, привязанную к левой руке, чтобы тот просил подаяние на возвращение долга. Если же по ошибке должника привязывали за правую руку, которой крестятся, то долг ему прощался. Со слов старых казаков Паллас записал и обычай продавать надоевших жен на базаре. В целом же он характеризовал современных ему яицких казаков как людей «знающих», «хороших нравов», «чистоту наблюдающих». По его мнению, это объяснялось сравнительным достатком этого народа.
Наблюдая обычаи китайцев, Паллас поразился их суеверию и записал: «…удивления достойное дело, что сей столь глубокомысленный народ так много своим календарным предсказаниям и другим многим нелепостям верует». Поразили его обычаи во время лунного затмения стучать в доски и литавры, чтобы прогнать тень, закрывшую ночное светило; молиться во время пожара, вместо того чтобы тушить его.
При всей кристальной честности и объективности оценок Палласа все же есть в чем упрекнуть, хотя наверняка его заблуждения были искренними. Ряд русских ученых справедливо ставят путешественнику в вину концепцию, утверждавшую, что «русские не могут сами создавать чего-либо нового в области техники». Жестокий приговор был развенчан самой историей технического развития человечества.
Впрочем, некоторые основания для такого вывода у ученого, несомненно, были. Уже в самом начале путешествия только что покинувший Европу Паллас был поражен местной бесхозяйственностью. Будучи в Касимове, он записал: «Всякому иностранному человеку может показаться еще чуднее, что при таком изобилии камня мощены улицы бревнами и досками». Побывав на нескольких красильных, кожевенных и мыловаренных производствах, он отметил, что рабочие здесь делают свое дело «обыкновенным в России трудным образом», имея в виду нерациональную организацию производства. На реке Черемшан после посещения винных заводов ученый старался убедить хозяев ввести усовершенствования в аппараты, сделанные с явными ошибками. Однако те не хотели слушать советов. «Такое уже обыкновение», – отвечали они дотошному немцу, явно не доверяя его знаниям и опыту. В результате Паллас пришел к выводу: «А закоренелые такие худые обыкновения и высочайшими указами истребить трудно».
Европейцу Палласу казалось странным и отсутствие заботы о работниках предприятий. Побывав, например, на серных разработках между Сызранью и Самарой, он отмечал: «…удивительно, что при многолетней работе на сей горе не старались сделать лучшей дороги для всхода, которую легко бы можно было сделать кривизнами, и притом еще такую, по которой возили бы серный камень на лошадях. Но всегда оный носили работники на своих плечах из малой платы по крутой и каменистой тропинке, по которой и без ноши идущий человек находится в опасности, чтобы не сделаться уродом». Судя по всему, ученого возмущало и крепостное право в Российской империи, незнакомое западным европейцам той поры. С болью в сердце он писал, что сибирские крестьяне «благодарностью исполненным сердцем благословлять бы стали того, который бы их избавил от рабства».
Следует заметить, что Паллас вообще отличался человеколюбием. Несмотря на требовательность к подчиненным в том, что касалось работы, он очень заботился об их здоровье. Если кто-то заболевал, обоз начинал двигаться медленно, хотя Палласу, все время стремившемуся вперед, чтобы увидеть и изучить как можно больше, это наверняка давалось нелегко. А однажды он даже прервал маршрут в самом начале пути, для того чтобы «подать помощь и отвезти в удобное место» случайно раненого служителя. Свои же болезни ученый предпочитал переносить в дороге.
Отдыхать Паллас не любил, да и не умел. Когда иркутский губернатор, обрадованный приездом ученого, стал задавать балы в его честь и старался задержать как можно дольше в городе, он сетовал на время, проведенное «в суетах». Вынужденные задержки в дороге Паллас использовал только для работы. Вот одно из типичных свидетельств тому: «…ради нужных починок и расположений пробыл я в Омске до 22 мая и выиграл тем то, что нашел на пути моем вдоль по Иртышу растения в совершеннейшем состоянии».
Описывая свои странствия, Паллас намеренно опускал все, что касалось дорожных приключений, то есть то, о чем, как правило, с увлечением писали другие путешественники. А путешествие ученого, судя по отдельным фактам, было совсем не легким, и жизнь его не раз подвергалась опасности. Как-то Палласу пришлось ночевать в горящей степи. В другой раз, не желая задерживаться в пути, он переправился через реку во время ледохода, перепрыгивая с льдины на льдину. А однажды едва выбрался из болота, где лошади проваливались в трясину по самую голову. Поэтому неудивительно, что из экспедиции тридцатишестилетний Паллас вернулся совершенно седым, с серьезными расстройствами здоровья.
Длившееся 6 лет путешествие Палласа закончилось 30 июля 1774 г. Двадцать лет после этого ученый прожил в Петербурге, обрабатывал колоссальные материалы, привезенные из экспедиции, и написал большое количество научных работ по ботанике, зоологии, геологии, этнографии, энтомологии, истории.
Екатерина II очень ценила Палласа. По ее повелению он читал естественные науки внукам императрицы, в том числе будущему императору Александру I, регулярно получал награды, а к пятидесяти годам стал статским советником. Паллас был членом Топографической комиссии, историографом Адмиралтейской коллегии, членом Вольного экономического общества.
С каждым годом возрастал научный авторитет ученого. Он принимал деятельное участие в работе Академии наук, разработал проекты ряда экспедиций в Сибирь и на Камчатку, к сожалению, так и не состоявшихся. Из-за войны с Турцией остался нереализованным и план кругосветной экспедиции русской эскадры под командованием Г. И. Муловского, погибшего в сражении при Эланде. Зато научные труды Палласа получили широкое признание. Настоящий фурор в ученых кругах России и за границей произвел его доклад в публичном собрании Академии «Наблюдения над образованием гор и изменениями, происходящими на земном шаре и, в частности, в отношении Российской империи», в котором была изложена теория образования гор и развития Земли.
Однако жизнь в Петербурге не удовлетворяла ученого. Он стремился к природе и не любил городов, считая их источником зла. По его мнению, там «пороки соприкасаются друг с другом, портя нравы, подобно тому как испорченные испарения заражают воздух». В 1792 г. Паллас обратился к императрице за разрешением поселиться где-нибудь на юге России под предлогом ухудшения состояния здоровья и необходимостью закончить работу над описанием животных европейской части России и Сибири. Чтобы выбрать место, ученый вместе с женой, четырнадцатилетней дочерью и рисовальщиком Х. Гейслером за собственный счет отправился в путешествие. Академия поручила ему составить его описание, на что Паллас с удовольствием согласился.
«Семейная» экспедиция побывала в Твери, Москве, Владимирской губернии, в Арзамасе, Пензе, Саратове, спустилась по Волге до Астрахани, побывала в Калмыцких степях, на азовском побережье и в Крыму. Природа полуострова очаровала Палласа, и он решил поселиться именно здесь. Императрица пожаловала ученому земли возле р. Айтодора, с садами и мельницей, 10 десятин виноградников в Судакской долине, а также 10 тысяч рублей «на обзаведение» и право получать академическое жалованье при условии, если он будет продолжать научные труды.
Осенью 1795 г. Паллас с семьей поселился в Крыму и занялся его изучением. Помимо научных занятий, ученый успешно действовал и на общественной ниве, принимая активное участие в организации казенных училищ садоводства и виноградарства, работал над улучшением сортов сельскохозяйственных культур.
Однако последние годы жизни Палласа протекали отнюдь не идиллически. Надежды на благоприятный климат не оправдались. Его продолжала мучить приобретенная в путешествиях лихорадка. Соседи-татары замучили ученого земельными тяжбами. Паллас тосковал по старшему брату и, конечно, по Германии. После смерти жены, будучи 69-летним стариком, он вернулся на родину, где был встречен с восхищением. Ученый мечтал продолжить научные занятия, посетить музеи Италии и Франции. Но состояние его здоровья быстро ухудшалось. Через год после переезда, 8 сентября 1811 г. Паллас умер в Берлине, городе своего детства.
Научное наследие Палласа огромно. Ему принадлежит свыше 170 только напечатанных трудов на немецком языке. Важнейшими среди работ, посвященных географической науке, являются: «Путешествия по разным провинциям Российской империи» (на русском языке печатались в 1768–1770, 1772–1773 гг. по одной части в год; есть издания на французском и итальянском языках); «Топографическое описание Таврической области» (1795), самостоятельно переведенное ученым на русский и французский языки; «Записки путешествия в южные губернии Российской империи с 1793 по 1794 г.».
Из книги 100 великих пророков и вероучителей автора Рыжов Константин ВладиславовичСимон Маг и Валентин Вся история становления христианского богословия проходила в напряженной борьбе с ересями, которые стали возникать сразу же после Вознесения Иисуса (о первых еретиках речь идет уже в посланиях апостолов). Так, на ранних этапах своей истории
Из книги Московские обыватели автора Вострышев Михаил ИвановичЛетописец московских нравов. Очеркист Петр Федорович Вистенгоф (1811–1855) Читателям сейчас ничего не говорят имена авторов: Л. П. Башуцкий, В. В. Толбин, Ф. К. Дершау, П. Вистенгоф… Из предисловия В. И. Кулешова к сборнику «Русский очерк» Давайте попутешествуем по Москве
Из книги Линкоры Британской империи. Часть 1. Пар, парус и броня автора Паркс Оскар Из книги 100 великих евреев автора Шапиро МайклСИМОН БАР-КОХБА (ум. 135 н.э.) Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Числ. 24:17 Симон Бар-Кохба, или Симон Сын Звезды, возглавил последнее восстание евреев против
Визенталь, Симон (Wiesenthal), основатель Центра документации (архива) в Вене, целью которого был розыск избежавших наказания после окончания 2-й мировой войны нацистов. Родился в 1908 в Польше, по специальности архитектор. Визенталь был узником многих концентрационных лагерей.
Из книги 500 великих путешествий автора Низовский Андрей ЮрьевичАкадемик Паллас пересекает Россию В 1768 г. Петербургская академия наук организовала 5 географических экспедиций, работавших по общей программе. Они изучали различные районы России. Три экспедиции именовались оренбургскими (по своей базе), а две астраханскими.
Из книги Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. автора автора Мишель Анри Из книги Немцы на Южном Урале автора Моисеев Александр Павлович«Естествоиспытатели» (Паллас, Фальк, Георги) Кого из исследователей Южноуралья назвать первым? Пожалуй, это Иоганн Готфрид Тейцельман. Он прибыл на Южный Урал еще в составе Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова (1734 год). Главной задачей этого первого «государственного
автораКРУГ ПЯТЫЙ. ЛИННЕЙ, ПАЛЛАС, БЮФФОН Вторую половину XVIII века во время царствования Екатерины II называли «просвещённой эпохой». Даже кошмарная тень Пугачёва, на подавление восстания которого были брошены лучшие полки во главе с непобедимым Суворовым, не могла разрушить
Из книги Арабески ботаники автора Куприянов Андрей НиколаевичКРУГ СЕДЬМОЙ. ПАЛЛАС, ЛАКСМАН Пётр Симон Паллас был баловнем судьбы. Он родился 22 сентября 1741 года в достаточно обеспеченной семье. Отец - военный хирург, имел достаточно средств для воспитания сына, кроме того он был профессором Берлинской медико-хирургической Коллегии.
Из книги Всемирная история в изречениях и цитатах автора Душенко Константин ВасильевичП. С. Паллас (1741 - 1811) - натуралист и путешественник-энциклопедист, прославивший свое имя крупными вкладами в географию, зоологию, ботанику, палеонтологию, минералогию, геологию, этнографию, историю и языкознание. Паллас исследовал обширные пространства Поволжья, Прикаспия, Башкирии, Урала, Сибири, Предкавказья и Крыма. Во многих отношениях это было настоящим открытием необъятных территорий России для науки.
Географические заслуги Палласа огромны не только по линии инвентаризации колоссального количества фактов, но и по умению их систематизировать и объяснять. Паллас был пионером и в расшифровке орогидрографии больших частей Урала, Алтая, Саян и Крыма, и в суждении о их геологическом строении, и в научном описании минеральных богатств, а также флоры и фауны России. Он собрал множество сведений и о ее горной промышленности, сельском и лесном хозяйстве, этнографии, языках и истории.
Н. А. Северцов подчеркивал, что Паллас, изучая «связи всех трех царств природы», установил «прочные воззрения «а значение метеорологических, почвенных и климатических влияний… Нет отрасли естественных наук, в которой Паллас не проложил бы нового пути, не оставил бы гениального образца для последовавших за ним исследователей… Он подал пример неслыханной до него точности в научной обработке собранных им материалов. По своей многосторонности Паллас напоминает энциклопедических ученых древности и средних веков; по точности и положительности - это ученый современный, а не XVIII века».
Высказанная Палласом в 1777 г. теория о происхождении гор ознаменовала собою целый этап в развитии науки о Земле. Подобно Соссюру, наметившему первые закономерности в строении недр Альп, Паллас, которого называли русским Соссюром, сумел уловить первые признаки закономерного (зонального) строения в таких сложных горных системах, как Урал и горы южной Сибири, и сделал из этих наблюдений общетеоретические выводы. Важно, что, еще и не умея преодолеть мировоззрение катастрофистов, Паллас стремился отразить и расшифровать всю сложность и многообразие причин геологических процессов. Он писал: «Чтобы отыскать разумные причины изменений на нашей Земле, надо соединить много новых гипотез, а не брать одну какую-нибудь, как это делают прочие авторы теории Земли». Паллас говорил и о «потопах» и о вулканических извержениях, и о «катастрофических провалах дна», как об одной из причин понижений уровня океана, и делал вывод: «Очевидно, природа употребляет весьма разнообразные способы для образования и передвижения гор и для произведения других явлений, изменивших поверхность Земли». Идеи Палласа имели, по признанию Кювье, большое влияние на развитие общих геологических представлений даже таких признанных родоначальников геологии, как Вернер и Соссюр.
Однако, приписывая Палласу закладку «начала всей новейшей геологии», Кювье допускал явное преувеличение и демонстрировал свое незнакомство с идеями Ломоносова. А. В. Хабаков подчеркивает, что рассуждение Палласа о всемирных переворотах и катастрофах было «внешне эффектной, но мало продуманной и фальшивой концепцией, шагом назад, по сравнению, например, со взглядами Ломоносова «о нечувствительных течением времени переменах» границ суши и моря». Кстати, в более поздних сочинениях Паллас не опирается на свою катастрофистскую гипотезу и, описывая природу Крыма в 1794 г., говорит о горных поднятиях как о «явлениях, которые невозможно объяснить».
По словам В. В. Белоусова, «имя Палласа стоит первым в истории наших региональных геологических исследовании… Почти век книги Палласа лежали на столах геологов в качестве справочников, и, перелистывая эти толстые томы, всегда можно было найти в них какое-нибудь новое, не замеченное раньше указание на присутствие там или здесь ценного минерала, и подобные сухие и краткие сообщения позже не раз были причиной крупных геологических открытий… Геологи шутят, что исторический очерк исследований в любом геологическом отчете должен начинаться словами: «Еще Паллас…»
Паллас, словно предвидя это, вел подробнейшие записи, не пренебрегая любыми мелочами, и объяснял это так: «Многие вещи, которые могут теперь показаться незначительными, со временем у наших потомков могут приобрести большое значение». Сравнение Палласом пластов Земли с книгой древней хроники, по которой можно читать ее историю, стало теперь принадлежностью любого учебника по геологии и физической географии. Паллас дальнозорко предсказывал, что эти архивы природы, «предшествовавшие азбуке и самым отдаленным преданиям, мы только начали читать, но материал, заключающийся в них, не исчерпается еще в несколько столетий после нас». Внимание, которое Паллас уделял изучению связей между явлениями, приводило его ко многим важным физико-географическим выводам. Об этом Н. А. Северцов писал: «…Климатология и физическая география не существовали до Палласа. Он более всех своих современников занимался ими и был в этом отношении достойным предшественником Гумбольдта… Паллас первый стал наблюдать периодические явления в жизни животных. Он составил в 1769 году для членов экспедиции план этих наблюдений…» Согласно этому плану надлежало регистрировать ход температуры, вскрытие рек, сроки прилета птиц, цветения растений, пробуждения животных от спячки и пр. Это рисует Палласа и как одного из первых в России организаторов фенологических наблюдений.
Паллас описал сотни видов животных, высказал много интересных мыслей о их связях со средой и наметил их ареалы, что позволяет говорить о нем как об одном из основоположников зоогеографии. Основополагающим вкладом Палласа в палеонтологию явились его исследования ископаемых остатков мамонта, буйвола и волосатого носорога сначала по музейным коллекциям, а потом и по собственным сборам. Паллас пытался объяснить нахождение костей слонов вперемешку «с морскими раковинами и костями морских рыб», а также на хождение в мерзлоте на реке Вилюе трупа волосатого носорога с уцелевшей шерстью. Ученый еще не мог допустить, что носороги и слоны жили так далеко на севере, и привлекал для объяснения их заноса с юга внезапное катастрофическое вторжение океана. И все же ценна была сама попытка палеогеографического истолкования находок ископаемых остатков.
В 1793 г. Паллас описал отпечатки листьев из третичных отложений Камчатки - это были первые сведения об ископаемых растениях с территории России. Известность Палласа как ботаника связана с начатой им капитальной «Флорой России».
Паллас доказал, что уровень Каспия лежит ниже уровня Мирового океана, но что прежде Каспий доходил до Общего Сырта и Ергеней. Установив родство рыб и моллюсков Каспия и Черного моря, Паллас создал гипотезу о существовании в прошлом единого Понто-Арало-Каспийского бассейна и его разъединении при прорыве вод через Босфорский пролив.

В ранних трудах Паллас выступал как предтеча эволюционистов, отстаивая изменчивость организмов, и даже рисовал родословное древо развития животных, но позднее перешел на метафизические позиции отрицания изменчивости видов. В понимании же природы как целого эволюционное и стихийно-материалистическое мировоззрение было свойственно Палласу до конца его жизни.
Современников поражала трудоспособность Палласа. Он опубликовал 170 работ, среди них десятки капитальных исследований. Его ум был словно создан для сбора и упорядочения хаоса несметных фактов и для сведения их в четкие системы классификаций. В Палласе сочетались острая наблюдательность, феноменальная память, великая дисциплинированность мысли, что обеспечивало своевременную фиксацию всего наблюдаемого, и высочайшая научная честность. За достоверность регистрируемых Палласом фактов, за приводимые им данные измерений, описания форм и т. п. можно ручаться. «Сколь ревностно я в моей науке справедливость наблюдаю (да может быть к моему нещастию и слишком), столь во всем оном описании моего путешествия я не выступал из нее «и наималейше: ибо по своему понятию взять вещь за другую и уважить больше, нежели какова она есть в самом деле, где прибавить, а где утаить, я щитал за наказания достойной проступок против ученого свету, наипаче между натуралистами…».
Сделанные ученым описания множества местностей, урочищ, населенных пунктов, черт хозяйства и быта никогда не потеряют ценности именно в силу своей подробности и достоверности: это - эталоны для измерения перемен, происшедших в природе и людях за последующие эпохи.
Паллас родился 22 сентября 1741 г. в Берлине в семье немецкого профессора-хирурга. Мать мальчика была француженка. Учась до 13 лет у домашних учителей, Паллас хорошо овладел языками (латынью и современными европейскими), что в дальнейшем очень облегчило его научную деятельность, особенно при составлении словарей и при выработке научной терминологии.
В 1761 - 1762 гг. Паллас изучал коллекции у натуралистов Англии, а также экскурсировал по ее берегам, собирая морских животных.
22-летний молодой человек был настолько признанным авторитетом, что его уже тогда избрали своим членом академии Лондона и Рима. В 1766 г. Паллас опубликовал зоологический труд «Исследование зоофитов», который знаменовал собой целый переворот в систематике: кораллы и губки, только что переведенные зоологами из растительного мира в животный, были детально классифицированы Палласом. Тогда же он начал разрабатывать родословное древо животных, выступив, таким образом, как предтеча эволюционистов.
Вернувшись в 1767 г. в Берлин, Паллас опубликовал еще ряд монографий и сборников по зоологии. Но именно в это время его ждал крутой поворот, в результате которого ученый на целых 42 года оказался в России, в стране, буквально ставшей ему вторым отечеством.

Крюгер, Франц – Портрет Петра Симона Палласа
В 1767 г. Палласа рекомендовали Екатерине II как блестящего ученого, способного выполнить задуманные в России разносторонние исследования ее природы и хозяйства. 26-летний ученый приехал в Петербург и в роли профессора «истории натуральной», а затем ординарного академика с жалованьем 800 руб. в год принялся за изучение новой для него страны. Среди служебных обязанностей ему было записано «изобретать нечто новое в своей науке», обучать учеников и «умножать достойными вещами» академический «натуральный кабинет».
Палласу было поручено возглавить первый отряд так называемых Оренбургских физических экспедиций. В экспедиции приняли участие молодые географы, выросшие в дальнейшем в крупных ученых. В их числе были Лепехин, Зуев, Рычков, Георги и др. Одни из них (например, Лепехин) совершали под руководством Палласа самостоятельные маршруты; другие (Георги) сопутствовали ему на отдельных этапах путешествия. Но были спутники, проделавшие с Палласом и весь путь (студенты Зуев и химик Никита Соколов, чучельник Шуйский, рисовальщик Дмитриев и др.). Русские спутники оказали колоссальную помощь только начинавшему изучать русский язык Палласу, участвуя в сборе коллекций, совершая дополнительные экскурсии в стороны, ведя расспросную работу, организуя перевозки и бытовое устройство. Неразлучной спутницей, вы несшей эту тяжелую экспедицию, была и молодая жена Палласа (он женился в 1767 г.).
Инструкция, данная Палласу Академией, могла бы показаться непосильной для современной большой комплексной экспедиции. Палласу поручалось «исследовать свойства вод, почв, способы обработки земли, состояние земледелия, распространенные болезни людей и животных и изыскать средства к их лечению и предупреждению, исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно овцеводство». Далее в числе объектов изучения были перечислены минеральные богатства и воды, искусства, ремесла, промыслы, растения, животные, «форма и внутренность гор», географические, метеорологические и астрономические наблюдения и определения, нравы, обычаи, предания, памятники и «разные древности». И все же этот огромный объем работы был действительно в значительной части выполнен Палласом за шесть лет путешествий.
Экспедиция, участие в которой ученый считал за большое счастье, началась в июне 1768 г. и продолжалась шесть лет. Все это время Паллас неустанно работал, ведя подробнейшие дневники, собирая обильные коллекции по геологии, биологии и этнографии. Это требовало непрерывного напряжения сил, вечной спешки, изнурительных дальних переездов по бездорожью. Постоянные лишения, простуды, частые недоедания подрывали здоровье ученого.
Зимние периоды Паллас тратил на редактирование дневников, которые незамедлительно отправлял в Петербург для печати, чем обеспечил начало публикации своих отчетов (с 1771 г.) еще до возвращения из экспедиции.
В 1768 г. он доехал до Симбирска, в 1769 г. посетил Жигули, Южный Урал (район Орска), Прикаспийскую низменность и оз. Индер, доезжал до Гурьева, после чего вернулся в Уфу. 1770 год Паллас провел на Урале, изучая его многочисленные рудники, и побывал в Богословске [Карпинск], на горе Благодать, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге [Свердловске], Троицке, Тюмени, Тобольске и зимовал в Челябинске. Выполнив заданную программу, Паллас сам обратился в Академию за разрешением продлить экспедицию на районы Сибири. Получив это разрешение, Паллас в 1771 г. проехал через Курган, Ишим и Тару в Омск и Семипалатинск. На основании расспросных данных Паллас осветил вопрос о колебании уровня озер Зауралья и Западной Сибири и связанные с этим изменения в урожайности лугов, в рыбном и соляных промыслах. Паллас осмотрел Колыванские серебряные «рудокопни» на Рудном Алтае, посетил Томск, Барнаул, Минусинскую котловину и зимовал в Красноярске.
В 1772 г. он, миновав Иркутск и Байкал (изучение озера Паллас поручил присоединившемуся к нему Георги), проехал в Забайкалье, добрался до Читы и Кяхты. В это время Никита Соколов ездил по его заданию до Аргунского острога. На обратном пути Паллас продолжил работу Георги по описи Байкала, в результате чего было описано почти все озеро. Вернувшись в Красноярск, в том же 1772 г. Паллас совершил поездку в Западный Саян и Минусинскую котловину.
Возвращение из экспедиции заняло полтора года. На обратном пути через Томск, Тару, Ялуторовск, Челябинск, Сарапуль (с заездом в Казань), Яицкий Городок [Уральск], Астрахань, Царицын, оз. Эльтон и Саратов, перезимовав в Царицыне, ученый совершил экскурсии вниз по Волге на Ахтубу, к горе Б. Богдо и к соленому озеру Баскунчак. Миновав Тамбов и Москву, в июле 1774 г. тридцатитрехлетний Паллас закончил свое беспримерное путешествие, вернувшись в Петербург седым и больным человеком. Желудочные заболевания и воспаление глаз преследовали его далее всю жизнь.
Однако даже утрату здоровья он считал вознагражденной полученными впечатлениями и говорил:
«…Самое блаженство видеть в знатной части света натуру в самом ее бытии, где человек весьма мало от нее отшибся, и ей учиться, служило мне за утраченную при том юность и здоровье изряднейшим награждением, которого от меня никакая зависть не отымет».
Пятитомный труд Палласа «Путешествие по разным провинциям», изданный сначала на немецком языке в 1771 - 1776 гг., представлял собой первое всестороннее и капитальное описание огромной страны, почти неизвестной в то время в научном отношении. Немудрено, что этот труд в короткое время перевели не только на русский (1773 - 1788), но и на английский и на французский языки с примечаниями видных ученых, например Ламарка.
Паллас провел огромную работу по редактированию и изданию трудов целого ряда исследователей. В 1776 - 1781 гг. он опубликовал «Исторические известия о монгольском народе», сообщив в них наряду с историческими множество этнографических сведений о калмыках, бурятах и - по расспросным данным - о Тибете. В материалы о калмыках Паллас включил, помимо своих наблюдений, также и данные погибшего на Кавказе географа Гмелина.
По возвращении из экспедиции Паллас был окружен почетом, сделан историографом Адмиралтейства и преподавателем августейших внуков - будущего императора Александра I и его брата Константина.
«Кабинет достопамятностей природы», собранный Палласом, был приобретен для Эрмитажа в 1786 г.
Дважды (в 1776 и 1779 гг.) в ответ на просьбы Академии наук Паллас выступал со смелыми проектами новых экспедиций по северу и востоку Сибири (его привлекали Енисей и Лена, Колыма и Камчатка, Курильские и Алеутские острова). Паллас пропагандировал несметность природных богатств Сибири, спорил с предрассудком, что «северный климат не благоприятен для образования драгоценных камней». Тем не менее, ни одна из этих экспедиций не осуществилась.
Жизнь Палласа в столице была связана с его участием в решении ряда государственных вопросов, с приемами множества иностранных гостей. Екатерина II привлекла Палласа к составлению словаря «всех языков и наречий».
23 июня 1777 г. ученый выступил с речью в Академии наук и тепло говорил о равнинах России как об отечестве могущественного народа, как о «питомнике героев» и «лучшем убежище наук и искусств», об «арене чудесной деятельности огромного творческого духа Петра Великого».
Развивая уже упомянутую теорию образования гор, он подметил приуроченность гранитов и облекающих их древних «первичных» сланцев, лишенных окаменелостей, к осевым зонам гор. Паллас нашел, что к периферии («на боках масс предшествующих гор») они перекрыты породами «вторичной» формации - известняками и глинами, а также, что эти породы снизу вверх по разрезу залегают все более полого и содержат все больше окаменелостей. Паллас отметил и приуроченность к известнякам крутых оврагов и пещер со сталактитами.
Наконец, на периферии горных стран он констатировал наличие осадочных пород «третичной» формации (впоследствии в Предуралье их возраст оказался пермским).
Подобное строение Паллас объяснял определенной последовательностью древних вулканических процессов и осадконакопления и делал смелый вывод о том, что вся территория России была некогда морским дном, над морем же поднимались лишь острова «первичных гранитов». Хотя Паллас и сам считал причиной наклонения пластов и поднятия гор вулканизм, он упрекал в односторонности итальянских натуралистов, которые, «видя постоянно перед глазами огнедышащие вулканы, все приписывали внутреннему огню». Подметив, что часто «самые высокие горы состоят из гранита», Паллас при этом сделал поразительно глубокий вывод, что гранит «составляет основание континентов» и что «в нем нет окаменелостей, следовательно, он предшествовал органической жизни».
В 1777 г. по поручению Академии наук Паллас исполнил и в 1781 г. издал важное историко-географическое исследование «О российских открытиях на морях между Азиею и Америкою». В том же 1777 г. Паллас издал большую монографию о грызунах, затем еще ряд сочинений о различных млекопитающих и насекомых. Паллас описывал животных не только как систематик, но освещал и их связи со средой, выступая, таким образом, как один из зачинателей экологии.
В «Мемуаре о разновидностях животных» (1780) Паллас перешел на антиэволюционную точку зрения в вопросе об изменчивости видов, объявив их разнообразие и родство влиянием «творческой силы». Но в этом же «Мемуаре» ученый предвосхищает ряд современных взглядов на искусственную гибридизацию, говоря «о непостоянстве некоторых пород домашних животных».
С 1781 г. Паллас, получив в свое распоряжение гербарии своих предшественников, работал над «Флорой России». Первые два тома «Флоры» (1784 - 1788) были в официальном порядке разосланы по губерниям России. Также разослано было по стране и написанное Палласом по поручению правительства «Постановление о лесоразведении», состоящее из 66 пунктов. В течение 1781 - 1806 гг. Паллас создал монументальную сводку по насекомым (главным образом по жукам). В 1781 г. Паллас основал журнал «Новые северные примечания», публикуя в нем множество материалов о природе России и плаваниях в Русскую Америку.
При всей почетности положения столичная жизнь не могла не тяготить прирожденного исследователя и путешественника. Он выхлопотал себе разрешение отправиться за свой счет в новую экспедицию, на этот раз по югу России. 1 февраля 1793 г. Паллас выехал с семьей из Петербурга через Москву и Саратов в Астрахань. Досадный случай - падение в ледяную воду при переправе через Клязьму - привел к дальнейшему ухудшению его здоровья. В Прикаспии Паллас посетил ряд озер и возвышенностей, затем поднялся вверх по Куме к Ставрополю, осмотрел источники Минераловодской группы и через Новочеркасск проехал в Симферополь.
Ранней весной 1794 г. ученый начал изучение Крыма. Осенью Паллас через Херсон, Полтаву и Москву вернулся в Петербург и представил Екатерине II описание Крымавместе с прошением разрешить ему переселиться туда на жительство. Вместе с разрешением Паллас получил от императрицы дом в Симферополе, две деревни с участками земли в Айтодорской и Судакской долинах и 10 тысяч рублей на устройство в Крыму училищ садоводства и виноделия. При этом за ним было сохранено и академическое жалованье.
Паллас с увлечением отдался исследованию природы Крыма и пропаганде его сельскохозяйственного освоения. Он исходил самые неприступные места Крымских гор, развел сады и виноградники в Судакской и Козской долинах, написал ряд статей по агротехнике южных культур в условиях Крыма.
Дом Палласа в Симферополе был местом паломничества всех почетных гостей города, хотя Паллас жил скромно и тяготился внешним блеском своей славы. Очевидцы описывают его, уже близкого к глубокой старости, но еще свежего и бодрого. Воспоминания о своих путешествиях приносили ему, по его словам, более удовольствия, нежели самая слава его.
Паллас и в Крыму продолжал обработку сделанных им ранее наблюдений. В 1799 - 1801 гг. он издал описание своего второго путешествия, заключающее в себе, в частности, и капитальное описание Крыма. Работы Палласа о Крыме - вершина его достижений как географа-натуралиста. А страницы с характеристиками геологического строения Крыма, как пишет А. В. Хабаков (стр. 187), «сделали бы честь полевым записям геолога даже и в наше время».
Любопытны соображения Палласа по поводу границы Европы с Азией. Стремясь отыскать для этой в сущности условной культурно-исторической границы более подходящий природный рубеж, Паллас оспаривал проведение этой границы по Дону и предлагал перенести ее на Общий Сырт и Ергени.
Главной же целью своей жизни Паллас считал создание «Российско-Азиатской зоографии». Над ней он упорнее всего трудился в Крыму, и с опубликованием именно этой книги ему более всего не везло: ее издание было завершено лишь в 1841 г., то есть через 30 лет после его смерти.
В предисловии к этому труду Паллас не без горечи писал: «Наконец является в свет Зоография, так долго лежавшая в бумагах, собранная в течение 30 лет. Она содержит в себе одну восьмую часть животных всего обитаемого мира».
В отличие от «худосочных» систематических сводок по фаунам, содержащих «сухие скелеты имен и синонимов», Паллас ставил целью создать фаунистическую сводку, «полную, богатую и так составленную, что она может быть пригодна для освещения всей зоологии». В этом же предисловии Паллас подчеркнул, что именно зоология оставалась всю жизнь главной его страстью: «…И хотя любовь к растениям и произведениям подземной природы, а также положение и нравы народов и сельское хозяйство меня постоянно развлекали, однако я с молодых лет особенно интересовался зоологией предпочтительно пред остальными частями физиографии». В действительности же «Зоография» содержит столь обильные материалы по экологии, расселению и экономическому значению животных, что она могла бы именоваться и «Зоогеографией».
Незадолго до кончины в жизни Палласа произошел еще один, для многих неожиданный поворот. Недовольный участившимися земельными тяжбами с соседями, жалуясь на малярию, а также стремясь повидать старшего брата и надеясь ускорить издание своей «Зоографии», Паллас распродал за бесценок свои крымские имения и «с высочайшего соизволения» переехал в Берлин, где не был более 42 лет. Официальной мотивировкой отъезда было: «Для приведения в порядок дел своих…» Натуралисты Германии с почетом встретили семидесятилетнего старца как признанного патриарха естествознания. Паллас окунулся в научные новости, мечтал о поездке по природоведческим музеям Франции и Италии. Но расстроенное здоровье давало себя знать. Сознавая приближение смерти, Паллас провел большую работу по приведению в порядок рукописей, по раздаче друзьям оставшихся коллекций. 8 сентября 1811 г. его не стало.
Заслуги Палласа уже при его жизни получили всемирное признание. Он был избран, помимо уже упомянутых, членом научных обществ: Берлинского, Венского, Богемского, Монпельерского, Патриотического шведского, Гессен-Гамбургского, Утрехтского, Лундского, Петербургского вольного экономического, а также Парижского национального института и академий Стокгольмской, Неаполитанской, Геттингенской и Копенгагенской. В России он имел чин действительного статского советника.

В честь Палласа названы многие растения и животные, в том числе род растений Pallasia (название дано самим Линнеем, глубоко ценившим заслуги Палласа), крымская сосна PinusPallasiana и др.

Крымская сосна Pinus Pallasiana

Шафран Палласа – Crocuspallasii
Особый тип железо-каменных метеоритов назван палласитами по имени метеорита «Палласово железо», который ученый привез в Петербург из Сибири в 1772 г.

Памятник Петру Симону Палласу
У берегов Новой Гвинеи есть риф Палласа. В 1947 г. в честь Палласа был назван действующий вулкан на острове Кетой в Курильской гряде. В Берлине, имя Палласа носит одна из улиц.Более того пристанционный посёлок Палласовка (город с 1967)основанный в 1907 годуполучила своё интересное название так же благодаря заслугам немецкого путешественника и натуралиста Петра Симона Палласа, который в XVIII веке проводил экспедицию в данном регионе. Любопытно, что сам Паллас в своё время отметил, что «это земля, на которой невозможно жить», делая акцент на жаркий климат летом (температура летом может достигать +45).
По материалам сети Интернет.
(1741 - 1811)
П. С. Паллас - натуралист и путешественник-энциклопедист, прославивший свое имя крупными вкладами в географию, зоологию, ботанику, палеонтологию, минералогию, геологию, этнографию, историю и языкознание. Паллас исследовал обширные пространства Поволжья, Прикаспия, Башкирии, Урала, Сибири, Предкавказья и Крыма. Во многих отношениях это было настоящим открытием необъятных территорий России для науки.
Географические заслуги Палласа огромны не только по линии инвентаризации колоссального количества фактов, но и по умению их систематизировать и объяснять. Паллас был пионером и в расшифровке орогидрографии больших частей Урала, Алтая, Саян и Крыма, и в суждении о их геологическом строении, и в научном описании минеральных богатств, а также флоры и фауны России. Он собрал множество сведений и о ее горной промышленности, сельском и лесном хозяйстве, этнографии, языках и истории.
Н. А. Северцов подчеркивал, что Паллас, изучая «связи всех трех царств природы», установил «прочные воззрения «а значение метеорологических, почвенных и климатических влияний... Нет отрасли естественных наук, в которой Паллас не проложил бы нового пути, не оставил бы гениального образца для последовавших за ним исследователей... Он подал пример неслыханной до него точности в научной обработке собранных им материалов. По своей многосторонности Паллас напоминает энциклопедических ученых древности и средних веков; по точности и положительности - это ученый современный, а не
XVIII века».Высказанная Палласом в 1777 г. теория о происхождении гор ознаменовала собою целый этап в развитии науки о Земле. Подобно Соссюру, наметившему первые закономерности в строении недр Альп, Паллас, которого называли русским Соссюром, сумел уловить первые признаки закономерного (зонального) строения в таких сложных горных системах, как Урал и горы южной Сибири, и сделал из этих наблюдений общетеоретические выводы. Важно, что, еще и не умея преодолеть мировоззрение катастрофистов, Паллас стремился отразить и расшифровать всю сложность и многообразие причин геологических процессов. Он писал: «Чтобы отыскать разумные причины изменений на нашей Земле, надо соединить много новых гипотез, а не брать одну какую-нибудь, как это делают прочие авторы теории Земли». Паллас говорил и о «потопах» и о вулканических извержениях, и о «катастрофических провалах дна», как об одной из причин понижений уровня океана, и делал вывод: «Очевидно, природа употребляет весьма разнообразные способы для образования и передвижения гор и для произведения других явлений, изменивших поверхность Земли». Идеи Палласа имели, по признанию Кювье, большое влияние на развитие общих геологических представлений даже таких признанных родоначальников геологии, как Вернер и Соссюр.
Однако, приписывая Палласу закладку «начала всей новейшей геологии», Кювье допускал явное преувеличение и демонстрировал свое незнакомство с идеями Ломоносова. А. В. Хабаков подчеркивает, что рассуждение Палласа о всемирных переворотах и катастрофах было «внешне эффектной, но мало продуманной и фальшивой концепцией, шагом назад, по сравнению, например, со взглядами Ломоносова «о нечувствительных течением времени переменах» границ суши и моря». Кстати, в более поздних сочинениях Паллас не опирается на свою катастрофистскую гипотезу и, описывая природу Крыма в 1794 г., говорит о горных поднятиях как о «явлениях, которые невозможно объяснить».
По словам В. В. Белоусова, «имя Палласа стоит первым в истории наших региональных геологических исследовании... Почти век книги Палласа лежали на столах геологов в качестве справочников, и, перелистывая эти толстые томы, всегда можно было найти в них какое-нибудь новое, не замеченное раньше указание на присутствие там или здесь ценного минерала, и подобные сухие и краткие сообщения позже не раз были причиной крупных геологических открытий... Геологи шутят, что исторический очерк исследований в любом геологическом отчете должен начинаться словами: «Еще Паллас...»
Паллас, словно предвидя это, вел подробнейшие записи, не пренебрегая любыми мелочами, и объяснял это так: «Многие вещи, которые могут теперь показаться незначительными, со временем у наших потомков могут приобрести большое значение». Сравнение Палласом пластов Земли с книгой древней хроники, по которой можно читать ее историю, стало теперь принадлежностью любого учебника по геологии и физической географии. Паллас дальнозорко предсказывал, что эти архивы природы, «предшествовавшие азбуке и самым отдаленным преданиям, мы только начали читать, но материал, заключающийся в них, не исчерпается еще в несколько столетий после нас». Внимание, которое Паллас уделял изучению связей между явлениями, приводило его ко многим важным физико-географическим выводам. Об этом Н. А. Северцов писал: «...Климатология и физическая география не существовали до Палласа. Он более всех своих современников занимался ими и был в этом отношении достойным предшественником Гумбольдта... Паллас первый стал наблюдать периодические явления в жизни животных. Он составил в 1769 году для членов экспедиции план этих наблюдений...» Согласно этому плану надлежало регистрировать ход температуры, вскрытие рек, сроки прилета птиц, цветения растений, пробуждения животных от спячки и пр. Это рисует Палласа и как одного из первых в России организаторов фенологических наблюдений.
Паллас описал сотни видов животных, высказал много интересных мыслей о их связях со средой и наметил их ареалы, что позволяет говорить о нем как об одном из основоположников зоогеографии. Основополагающим вкладом Палласа в палеонтологию явились его исследования ископаемых остатков мамонта, буйвола и волосатого носорога сначала по музейным коллекциям, а потом и по собственным сборам. Паллас пытался объяснить нахождение костей слонов вперемешку «с морскими раковинами и костями морских рыб», а также на хождение в мерзлоте на реке Вилюе трупа волосатого носорога с уцелевшей шерстью. Ученый еще не мог допустить, что носороги и слоны жили так далеко на севере, и привлекал для объяснения их заноса с юга внезапное катастрофическое

вторжение океана. И все же ценна была сама попытка палеогеографического истолкования находок ископаемых остатков.
В 1793 г. Паллас описал отпечатки листьев из третичных отложений Камчатки - это были первые сведения об ископаемых растениях с территории России. Известность Палласа как ботаника связана с начатой им капитальной «Флорой России».

Паллас доказал, что уровень Каспия лежит ниже уровня Мирового океана, но что прежде Каспий доходил до Общего Сырта и Ергеней. Установив родство рыб и моллюсков Каспия и Черного моря, Паллас создал гипотезу о существовании в прошлом единого Понто-Арало-Каспийского бассейна и его разъединении при прорыве вод через Босфорский пролив.
В ранних трудах Паллас выступал как предтеча эволюционистов, отстаивая изменчивость организмов, и даже рисовал родословное древо развития животных, но позднее перешел на метафизические позиции отрицания изменчивости видов. В понимании же природы как целого эволюционное и стихийно-материалистическое мировоззрение было свойственно Палласу до конца его жизни.
Современников поражала трудоспособность Палласа. Он опубликовал 170 работ, среди них десятки капитальных исследований. Его ум был словно создан для сбора и упорядочения хаоса несметных фактов и для сведения их в четкие системы классификаций. В Палласе сочетались острая наблюдательность, феноменальная память, великая дисциплинированность мысли, что обеспечивало своевременную фиксацию всего наблюдаемого, и высочайшая научная честность. За достоверность регистрируемых Палласом фактов, за приводимые им данные измерений, описания форм и т. п. можно ручаться. «Сколь ревностно я в моей науке справедливость наблюдаю (да может быть к моему нещастию и слишком), столь во всем оном описании моего путешествия я не выступал из нее «и наималейше: ибо по своему понятию взять вещь за другую и уважить больше, нежели какова она есть в самом деле, где прибавить, а где утаить, я щитал за наказания достойной проступок против ученого свету, наипаче между натуралистами...».
Сделанные ученым описания множества местностей, урочищ, населенных пунктов, черт хозяйства и быта никогда не потеряют ценности именно в силу своей подробности и достоверности: это - эталоны для измерения перемен, происшедших в природе и людях за последующие эпохи.
Паллас родился 22 сентября 1741 г. в Берлине в семье немецкого профессора-хирурга. Мать мальчика была француженка. Учась до 13 лет у домашних учителей, Паллас хорошо овладел языками (латынью и современными европейскими), что в дальнейшем очень облегчило его научную деятельность, особенно при составлении словарей и при выработке научной терминологии.
В 1761 - 1762 гг. Паллас изучал коллекции у натуралистов Англии, а также экскурсировал по ее берегам, собирая морских животных.
22-летний молодой человек был настолько признанным авторитетом, что его уже тогда избрали своим членом академии Лондона и Рима. В 1766 г. Паллас опубликовал зоологический труд «Исследование зоофитов», который знаменовал собой целый переворот в систематике: кораллы и губки, только что переведенные зоологами из растительного мира в животный, были детально классифицированы Палласом. Тогда же он начал разрабатывать родословное древо животных, выступив, таким образом, как предтеча эволюционистов.
Вернувшись в 1767 г. в Берлин, Паллас опубликовал еще ряд монографий и сборников по зоологии. Но именно в это время его ждал крутой поворот, в результате которого ученый на целых 42 года оказался в России, в стране, буквально ставшей ему вторым отечеством.
В 1767 г. Палласа рекомендовали Екатерине
II как блестящего ученого, способного выполнить задуманные в России разносторонние исследования ее природы и хозяйства. 26-летний ученый приехал в Петербург и в роли профессора «истории натуральной», а затем ординарного академика с жалованьем 800 руб. в год принялся за изучение новой для него страны. Среди служебных обязанностей ему было записано «изобретать нечто новое в своей науке», обучать учеников и «умножать достойными вещами» академический «натуральный кабинет».Палласу было поручено возглавить первый отряд так называемых Оренбургских физических экспедиций. В экспедиции приняли участие молодые географы, выросшие в дальнейшем в крупных ученых. В их числе были Лепехин, Зуев, Рычков, Георги и др. Одни из них (например, Лепехин) совершали под руководством Палласа самостоятельные маршруты; другие (Георги) сопутствовали ему на отдельных этапах путешествия. Но были спутники, проделавшие с Палласом и весь путь (студенты Зуев и химик Никита Соколов, чучельник Шуйский, рисовальщик Дмитриев и др.). Русские спутники оказали колоссальную помощь только начинавшему изучать русский язык Палласу, участвуя в сборе коллекций, совершая дополнительные экскурсии в стороны, ведя расспросную работу, организуя перевозки и бытовое устройство. Неразлучной спутницей, вы несшей эту тяжелую экспедицию, была и молодая жена Палласа (он женился в 1767 г.).
Инструкция, данная Палласу Академией, могла бы показаться непосильной для современной большой комплексной экспедиции. Палласу поручалось «исследовать свойства вод, почв, способы обработки земли, состояние земледелия, распространенные болезни людей и животных и изыскать средства к их лечению и предупреждению, исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно овцеводство». Далее в числе объектов изучения были перечислены минеральные богатства и воды, искусства, ремесла, промыслы, растения, животные, «форма и внутренность гор», географические, метеорологические и астрономические наблюдения и определения, нравы, обычаи, предания, памятники и «разные древности». И все же этот огромный объем работы был действительно в значительной части выполнен Палласом за шесть лет путешествий.
Экспедиция, участие в которой ученый считал за большое счастье, началась в июне 1768 г. и продолжалась шесть лет. Все это время Паллас неустанно работал, ведя подробнейшие дневники, собирая обильные коллекции по геологии, биологии и этнографии. Это требовало непрерывного напряжения сил, вечной спешки, изнурительных дальних переездов по бездорожью. Постоянные лишения, простуды, частые недоедания подрывали здоровье ученого.
Зимние периоды Паллас тратил на редактирование дневников, которые незамедлительно отправлял в Петербург для печати, чем обеспечил начало публикации своих отчетов (с 1771 г.) еще до возвращения из экспедиции.
В 1768 г. он доехал до Симбирска, в 1769 г. посетил Жигули, Южный Урал (район Орска), Прикаспийскую низменность и оз. Индер, доезжал до Гурьева, после чего вернулся в Уфу. 1770 год Паллас провел на Урале, изучая его многочисленные рудники, и побывал в Богословске [Карпинск], на горе Благодать, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге [Свердловске], Троицке, Тюмени, Тобольске и зимовал в Челябинске. Выполнив заданную программу, Паллас сам обратился в Академию за разрешением продлить экспедицию на районы Сибири. Получив это разрешение, Паллас в 1771 г. проехал через Курган, Ишим и Тару в Омск и Семипалатинск. На основании расспросных данных Паллас осветил вопрос о колебании уровня озер Зауралья и Западной Сибири и связанные с этим изменения в урожайности лугов, в рыбном и соляных промыслах. Паллас осмотрел Колыванские серебряные «рудокопни» на Рудном Алтае, посетил Томск, Барнаул, Минусинскую котловину и зимовал в Красноярске.
В 1772 г. он, миновав Иркутск и Байкал (изучение озера Паллас поручил присоединившемуся к нему Георги), проехал в Забайкалье, добрался до Читы и Кяхты. В это время Никита Соколов ездил по его заданию до Аргунского острога. На обратном пути Паллас продолжил работу Георги по описи Байкала, в результате чего было описано почти все озеро. Вернувшись в Красноярск, в том же 1772 г. Паллас совершил поездку в Западный Саян и Минусинскую котловину.
Возвращение из экспедиции заняло полтора года. На обратном пути через Томск, Тару, Ялуторовск, Челябинск, Сарапуль (с заездом в Казань), Яицкий Городок [Уральск], Астрахань, Царицын, оз. Эльтон и Саратов, перезимовав в Царицыне, ученый совершил экскурсии вниз по Волге на Ахтубу, к горе Б. Богдо и к соленому озеру Баскунчак. Миновав Тамбов и Москву, в июле 1774 г. тридцатитрехлетний Паллас закончил свое беспримерное путешествие, вернувшись в Петербург седым и больным человеком. Желудочные заболевания и воспаление глаз преследовали его далее всю жизнь.
Однако даже утрату здоровья он считал вознагражденной полученными впечатлениями и говорил:
«...Самое блаженство видеть в знатной части света натуру в самом ее бытии, где человек весьма мало от нее отшибся, и ей учиться, служило мне за утраченную при том юность и здоровье изряднейшим награждением, которого от меня никакая зависть не отымет».
Пятитомный труд Палласа «Путешествие по разным провинциям», изданный сначала на немецком языке в 1771 - 1776 гг., представлял собой первое всестороннее и капитальное описание огромной страны, почти неизвестной в то время в научном отношении. Немудрено, что этот труд в короткое время перевели не только на русский (1773 - 1788), но и на английский и на французский языки с примечаниями видных ученых, например Ламарка.
Паллас провел огромную работу по редактированию и изданию трудов целого ряда исследователей. В 1776 - 1781 гг. он опубликовал «Исторические известия о монгольском народе», сообщив в них наряду с историческими множество этнографических сведений о калмыках, бурятах и - по расспросным данным - о Тибете. В материалы о калмыках Паллас включил, помимо своих наблюдений, также и данные погибшего на Кавказе географа Гмелина.
По возвращении из экспедиции Паллас был окружен почетом, сделан историографом Адмиралтейства и преподавателем августейших внуков - будущего императора Александра
I и его брата Константина.«Кабинет достопамятностей природы», собранный Палласом, был приобретен для Эрмитажа в 1786 г.
Дважды (в 1776 и 1779 гг.) в ответ на просьбы Академии наук Паллас выступал со смелыми проектами новых экспедиций по северу и востоку Сибири (его привлекали Енисей и Лена, Колыма и Камчатка, Курильские и Алеутские острова). Паллас пропагандировал несметность природных богатств Сибири, спорил с предрассудком, что «северный климат не благоприятен для образования драгоценных камней». Тем не менее, ни одна из этих экспедиций не осуществилась.
Жизнь Палласа в столице была связана с его участием в решении ряда государственных вопросов, с приемами множества иностранных гостей. Екатерина
II привлекла Палласа к составлению словаря «всех языков и наречий».23 июня 1777 г. ученый выступил с речью в Академии наук и тепло говорил о равнинах России как об отечестве могущественного народа, как о «питомнике героев» и «лучшем убежище наук и искусств», об «арене чудесной деятельности огромного творческого духа Петра Великого».
Развивая уже упомянутую теорию образования гор, он подметил приуроченность гранитов и облекающих их древних «первичных» сланцев, лишенных окаменелостей, к осевым зонам гор. Паллас нашел, что к периферии («на боках масс предшествующих гор») они перекрыты породами «вторичной» формации - известняками и глинами, а также, что эти породы снизу вверх по разрезу залегают все более полого и содержат все больше окаменелостей. Паллас отметил и приуроченность к известнякам крутых оврагов и пещер со сталактитами.
Наконец, на периферии горных стран он констатировал наличие осадочных пород «третичной» формации (впоследствии в Предуралье их возраст оказался пермским).
Подобное строение Паллас объяснял определенной последовательностью древних вулканических процессов и осадконакопления и делал смелый вывод о том, что вся территория России была некогда морским дном, над морем же поднимались лишь острова «первичных гранитов». Хотя Паллас и сам считал причиной наклонения пластов и поднятия гор вулканизм, он упрекал в односторонности итальянских натуралистов, которые, «видя постоянно перед глазами огнедышащие вулканы, все приписывали внутреннему огню». Подметив, что часто «самые высокие горы состоят из гранита», Паллас при этом сделал поразительно глубокий вывод, что гранит «составляет основание континентов» и что «в нем нет окаменелостей, следовательно, он предшествовал органической жизни».
В 1777 г. по поручению Академии наук Паллас исполнил и в 1781 г. издал важное историко-географическое исследование «О российских открытиях на морях между Азиею и Америкою». В том же 1777 г. Паллас издал большую монографию о грызунах, затем еще ряд сочинений о различных млекопитающих и насекомых. Паллас описывал животных не только как систематик, но освещал и их связи со средой, выступая, таким образом, как один из зачинателей экологии.
В «Мемуаре о разновидностях животных» (1780) Паллас перешел на антиэволюционную точку зрения в вопросе об изменчивости видов, объявив их разнообразие и родство влиянием «творческой силы». Но в этом же «Мемуаре» ученый предвосхищает ряд современных взглядов на искусственную гибридизацию, говоря «о непостоянстве некоторых пород домашних животных».
С 1781 г. Паллас, получив в свое распоряжение гербарии своих предшественников, работал над «Флорой России». Первые два тома «Флоры» (1784 - 1788) были в официальном порядке разосланы по губерниям России. Также разослано было по стране и написанное Палласом по поручению правительства «Постановление о лесоразведении», состоящее из 66 пунктов. В течение 1781 - 1806 гг. Паллас создал монументальную сводку по насекомым (главным образом по жукам). В 1781 г. Паллас основал журнал «Новые северные примечания», публикуя в нем множество материалов о природе России и плаваниях в Русскую Америку.
При всей почетности положения столичная жизнь не могла не тяготить прирожденного исследователя и путешественника. Он выхлопотал себе разрешение отправиться за свой счет в новую экспедицию, на этот раз по югу России. 1 февраля 1793 г. Паллас выехал с семьей из Петербурга через Москву и Саратов в Астрахань. Досадный случай - падение в ледяную воду при переправе через Клязьму - привел к дальнейшему ухудшению его здоровья. В Прикаспии Паллас посетил ряд озер и возвышенностей, затем поднялся вверх по Куме к Ставрополю, осмотрел источники Минераловодской группы и через Новочеркасск проехал в Симферополь.
Ранней весной 1794 г. ученый начал изучение Крыма. Осенью Паллас через Херсон, Полтаву и Москву вернулся в Петербург и представил Екатерине
II описание Крыма вместе с прошением разрешить ему переселиться туда на жительство. Вместе с разрешением Паллас получил от императрицы дом в Симферополе, две деревни с участками земли в Айтодорской и Судакской долинах и 10 тысяч рублей на устройство в Крыму училищ садоводства и виноделия. При этом за ним было сохранено и академическое жалованье.Паллас с увлечением отдался исследованию природы Крыма и пропаганде его сельскохозяйственного освоения. Он исходил самые неприступные места Крымских гор, развел сады и виноградники в Судакской и Козской долинах, написал ряд статей по агротехнике южных культур в условиях Крыма.
Дом Палласа в Симферополе был местом паломничества всех почетных гостей города, хотя Паллас жил скромно и тяготился внешним блеском своей славы. Очевидцы описывают его, уже близкого к глубокой старости, но еще свежего и бодрого. Воспоминания о своих путешествиях приносили ему, по его словам, более удовольствия, нежели самая слава его.
Паллас и в Крыму продолжал обработку сделанных им ранее наблюдений. В 1799 - 1801 гг. он издал описание своего второго путешествия, заключающее в себе, в частности, и капитальное описание Крыма. Работы Палласа о Крыме - вершина его достижений как географа-натуралиста. А страницы с характеристиками геологического строения Крыма, как пишет А. В. Хабаков (стр. 187), «сделали бы честь полевым записям геолога даже и в наше время».
Любопытны соображения Палласа по поводу границы Европы с Азией. Стремясь отыскать для этой в сущности условной культурно-исторической границы более подходящий природный рубеж, Паллас оспаривал проведение этой границы по Дону и предлагал перенести ее на Общий Сырт и Ергени.
Главной же целью своей жизни Паллас считал создание «Российско-Азиатской зоографии». Над ней он упорнее всего трудился в Крыму, и с опубликованием именно этой книги ему более всего не везло: ее издание было завершено лишь в 1841 г., то есть через 30 лет после его смерти.
В предисловии к этому труду Паллас не без горечи писал: «Наконец является в свет Зоография, так долго лежавшая в бумагах, собранная в течение 30 лет. Она содержит в себе одну восьмую часть животных всего обитаемого мира».
В отличие от «худосочных» систематических сводок по фаунам, содержащих «сухие скелеты имен и синонимов», Паллас ставил целью создать фаунистическую сводку, «полную, богатую и так составленную, что она может быть пригодна для освещения всей зоологии». В этом же предисловии Паллас подчеркнул, что именно зоология оставалась всю жизнь главной его страстью: «...И хотя любовь к растениям и произведениям подземной природы, а также положение и нравы народов и сельское хозяйство меня постоянно развлекали, однако я с молодых лет особенно интересовался зоологией предпочтительно пред остальными частями физиографии». В действительности же «Зоография» содержит столь обильные материалы по экологии, расселению и экономическому значению животных, что она могла бы именоваться и «Зоогеографией».
Незадолго до кончины в жизни Палласа произошел еще один, для многих неожиданный поворот. Недовольный участившимися земельными тяжбами с соседями, жалуясь на малярию, а также стремясь повидать старшего брата и надеясь ускорить издание своей «Зоографии», Паллас распродал за бесценок свои крымские имения и «с высочайшего соизволения» переехал в Берлин, где не был более 42 лет. Официальной мотивировкой отъезда было: «Для приведения в порядок дел своих...» Натуралисты Германии с почетом встретили семидесятилетнего старца как признанного патриарха естествознания. Паллас окунулся в научные новости, мечтал о поездке по природоведческим музеям Франции и Италии. Но расстроенное здоровье давало себя знать. Сознавая приближение смерти, Паллас провел большую работу по приведению в порядок рукописей, по раздаче друзьям оставшихся коллекций. 8 сентября 1811 г. его не стало.
Заслуги Палласа уже при его жизни получили всемирное признание. Он был избран, помимо уже упомянутых, членом научных обществ: Берлинского, Венского, Богемского, Монпельерского, Патриотического шведского, Гессен-Гамбургского, Утрехтского, Лундского, Петербургского вольного экономического, а также Парижского национального института и академий Стокгольмской, Неаполитанской, Геттингенской и Копенгагенской. В России он имел чин действительного статского советника.
В честь Палласа названы многие растения и животные, в том числе род растений
Pallasia (название дано самим Линнеем, глубоко ценившим заслуги Палласа), крымская сосна Pinus Pallasiana и др.Особый тип железо-каменных метеоритов назван палласитами по имени метеорита «Палласово железо», который ученый привез в Петербург из Сибири в 1772 г.
У берегов Новой Гвинеи есть риф Палласа. В 1947 г. в честь Палласа был назван действующий вулкан на острове Кетой в Курильской гряде. В Берлине, имя Палласа носит одна из улиц.
Источник---
Отечественные физико-географы и путешественники. [Очерки]. Под ред. Н. Н. Баранского [и др.] М., Учпедгиз, 1959.
:: Исследователи Оренбуржья
Паллас Петр Симон (17411811)
Петр Симон Паллас - натуралист и путешественник-энциклопедист, прославивший свое имя крупными вкладами в географию, зоологию, ботанику, палеонтологию, минералогию, геологию, этнографию, историю и языкознание. Родился П. С. Паллас в Берлине в 1741 г. Учился в Германии, Голландии, Великобритании.
В 1767 г. Паллас приехал в Россию по вызову Академии наук, 26 лет от роду, и отдал новой Родине более 40 лет своей научной жизни.
В 17681774 гг. Паллас возглавил первый оренбургский отряд академической экспедиции Петербургской Академии наук в центральные области России, районы Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и Южного Урала, Южной Сибири. Все это время Паллас неустанно работал, ведя подробнейшие дневники, собирая обильные коллекции по геологии, биологии и этнографии, составившие основу музеев Петербургской Академии наук и Берлинского университета. Результаты этой экспедиции Паллас опубликовал в труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (ч. 18, 17731788). Этот труд представлял собой первое всестороннее и капитальное описание огромной страны, почти неизвестной в то время в научном отношении. Немудрено, что сочинение сделало имя Палласа широко известным и принесло путешественнику заслуженную славу. В короткое время этот труд Палласа был переведен на русский, английский и на французский языки с примечаниями видных ученых. Описание путешествия содержит обширные разнообразные сведения из области естествознания, этнографии, сельского хозяйства, технологии и пр., в том числе и сведения по Оренбургскому краю.
Паллас изучил особенности ландшафтов края и пришел к важным физико-географическим выводам. Установил границу между черноземными степями и солонцовыми полупустынями, выяснил морское происхождение Прикаспийской низменности, развил гипотезу о путях формирования бассейнов Аральского, Каспийского и Черного морей. Впервые дал научное описание многих видов растений и животного края. Обобщил важные сведения о полезных ископаемых Оренбуржья. Автор фундаментального труда «Флора России».
Естествоиспытатель, географ и неутомимый путешественник, доктор медицины, член Санкт-Петербургской Академии наук, действительный статский советник Пётр Семёнович (Петер-Симон) Паллас, 270-летие со дня рождения которого отметила общественность, является одной из самых знаковых фигур в истории нашего полуострова, где он прожил пятнадцать лет. Наверное, трудно найти крымчанина, который не слышал бы этого имени, симферопольца, ни разу не проходившего мимо здания с башенками в парке «Салгирка», которое называется «дом Палласа». Но вряд ли кто-то скажет, что хорошо знает о заслугах этого человека, о наследии, которое он нам оставил.Страсть к путешествиям
Именно это чувство привело сына профессора хирургии Берлинского колледжа Симона Палласа и француженки Сусанны Леонард, доктора медицины, к исследовательской работе в России. Приехав по приглашению Екатерины II для выполнения комплексного исследования природы и перспектив хозяйства России, в должности профессора естественной истории Санкт-Петербургской Академии наук он возглавил экспедицию в центральные области, районы Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и Южного Урала, Южной Сибири. Результатом его работы стал огромный труд «Путешествия по разным провинциям Российского государства», представлявший собой всестороннее капитальное исследование, переведённое позже на несколько европейских языков. Коллекции, собранные Палласом, пополнили академическую «Кунсткамеру» и Берлинский университет. Среди самых значительных трудов тех лет — составленные по поручению императрицы «Сравнительные словари всех языков и наречий».В 1793 году Паллас предпринял за свой счёт путешествие для изучения климата юга России и Крыма. Вернувшись в 1794-м в Санкт-Петербург, он представил Екатерине II «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области» и попросил разрешения поселиться в Крыму, желая завершить свои научные труды. Императрица пожаловала ему две деревни с участками земли в Айтодорской и Судакской долинах, дом в Симферополе и 10 тысяч рублей на устройство в Крыму училищ садоводства и виноделия, сохранив за ним академическое жалование. В августе 1795 года Паллас переселился в Крым.
Колумб природных богатств Тавриды
Так по праву называют великого российского естествоиспытателя, о котором поэт Осип Мандельштам сказал:Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки.А известный отечественный естествовед Николай Северцев писал:
Как ни велика слава Палласа, она всё ещё не может сравниться с его заслугами в науке.Наш полуостров Паллас назвал «замечательным», влюбившись в него с первого же посещения. Как отмечают авторы книги «Открыватели земли крымской» Василий, Александр и Андрей Ены, Крым стал последним открытием великого Палласа. «Присутствие славного мужа, — писал пророчески один из современников учёного о его пребывании в Симферополе, — поселившегося в стенах сего города, возвещает, кажется, зарю будущего его просвещения».
В своём доме на берегу реки Салгир Паллас собрал богатую коллекцию минералов, сотни образцов флоры и фауны полуострова. Мимо его обиталища не проходил ни один именитый гость города, известные учёные того времени, среди которых автор первой монографии о природе Тавриды академик Карл Габлиц , основатель и первый директор Никитского ботанического сада Христиан Стевен .
Обосновавшись в своей симферопольской усадьбе, названной по имени жены «Каролиновкой», учёный часто уходил пешком не только в ближние, но и удалённые уголки предгорья, Южного берега, Главной крымской гряды, керченского холмогорья и равнинного Крыма.
— Анализ крымских трудов Палласа позволил нам установить, что за годы своих крымских путешествий учёный проехал и прошагал в общей сложности более девяти тысяч километров, — отмечает Василий Ена. — Он описал в своих сочинениях около ста, а всего упомянул 908 географических объектов: горных вершин, долин, мысов, бухт, рек, населённых пунктов. Он дал характеристику, в том числе и впервые в науке, многим сотням видов растений и животных, обитающих на полуострове. Даже сегодня поражают особенная проницательность автора, многослойность и точность нарисованной им панорамы жизни природы и народов российского юга. Он не только исследовал природные богатства полуострова, но и увлечённо пропагандировал его рациональное хозяйственное освоение. Паллас писал:
Полуостров Крым по своему географическому положению, климату и природе его почвы есть единственная область Русской Империи, в которую можно ввести и одомашнить все произведения Греции и Италии... Можно было бы с выгодой ввести разведение шелковичных червей, культуру винограда, кунжута, оливок, хлопка, краппа, шафрана... Эти культуры со временем обогатят государство их произведениями...
Не только теоретик, но и практик
Учёный не только давал рекомендации, но и активно участвовал в хозяйственном освоении Крыма: основал в 1798 году старейший в Крыму дендропарк «Салгирка » в Симферополе — на территории нынешнего ботанического сада Таврического национального университета им. В. Вернадского. А также заложил обширные виноградники в Судакской долине, на Южнобережье и в предгорье. Чтобы обосновать использование местных ресурсов, Паллас описал двадцать четыре аборигенных сорта винограда и многие сорта южных плодовых культур.— Главное же, что сделал этот неутомимый исследователь, — это достаточно чёткое научное описание природных компонентов и многих территориальных комплексов, в первую очередь горного Крыма, — считает Василий Ена. — Паллас раскрыл происхождение и современное состояние изученных им объектов, благодаря чему читающие его труды смотрели на природу глазами первооткрывателей. Учёный впервые выдвинул идею о гипотетической суше, позднее названной Понтидой , которая могла простираться к югу от Главной гряды в пределы Черноморской впадины. Споры учёных об этом продолжаются до настоящего времени.
— Это ведь не единственная палласовская гипотеза?
— Вторая касается островного прошлого древней Тавриды:
Так как весь Крымский полуостров соединяется с материком только посредством узкого, неизменного Перекопского перешейка, то больше чем вероятно, что Крым был когда-то отделён от материка и со своей южной, более возвышенной частью составлял настоящий остров, именно в то время, когда уровень Чёрного моря стоял ещё выше, как об этом свидетельствуют и некоторые места у древних писателей.В своих трудах Паллас нередко ссылается на таких античных учёных, как Страбон, Плиний, на труды и карты средневековых арабских географов — Масуди, Ибн-Баттута и других.
В своих исследованиях Паллас приводит оригинальные сведения о горных породах и минералах, карстовых образованиях, об оползнях, каменных хаосах и морских террасах, впервые в науке упоминает о горно-долинных амфитеатрах Южного берега и осуществляет первое районирование соляных озёр полуострова, выделяя пять групп: Перекопскую, Арабатскую, Евпаторийскую, Феодосийскую и Керченскую. Выводам учёного предшествовали длительные путешествия, во время которых он не избегал самых рискованных маршрутов. Не случайно отвагой академика восхищался его современник путешественник Владимир Измайлов:
Объехал... цепь Крымских гор, там, где нет никакой другой дороги, кроме одной узкой тропинки, висящей по хребтам скал над ужасными пропастями, над пучиной Чёрного моря, и где должно пробираться по камням пешком или верхом на татарской лошади, которая одна знакома с сими страхами... Подножия гор, покрытые обломками камней и глыбами, так круты, что во многих местах лошадь едва может извилинами вскарабкаться наверх.— Бесстрашие первопроходца позволило ему первым донести до науки сообщение о знаменитой катастрофе, связанной с возникновением Кучук-койского обвала-оползня, — свидетельствует Василий Ена. — Достоверное детальное описание природного катаклизма, происшедшего более двух веков назад на полуострове, настолько до сих пор остаётся непревзойдённым. От чудовищной катастрофы, которую он живописал, до наших дней сохранился след — огромный каменный хаос на западе крымского Южнобережья.
Специалисты отмечают характерную особенность палласовских текстов: исследователь всегда приводит результаты географических измерений. Он первым дал некоторые важнейшие пространственные параметры природных регионов Крыма, подробно рассказал о различных формациях гор, описал яйлинские ландшафты. На яйле Демерджи Паллас кроме известняков обнаружил конгломераты, среди которых «много кварцевых галек, очень мало перенесённого гранита», то есть «пришлого» для Крыма. На Карадаге учёный находит то, что и нынче приводит в восторг отдыхающих в Коктебеле и Курортном — полудрагоценные морские камешки:
На берегу моря — много гальки... из яшмы и халцедона. Эта единственная во всей Тавриде каменная порода, могущая служить подтверждением в доказательство вулканической деятельности в самой отделённой древности.А в предгорье Паллас обнаружил, что «в мелу находят много черноватого ружейного кремня с белой корой». Именно это открытие послужило толчком для поисков по находкам кремневых орудий в районе Ак-Каи стоянок первобытного человека. В 70-80-е годы прошлого столетия здесь было обнаружено более двадцати палеолитических стоянок.
Натуралист энциклопедического склада
И в этой ипостаси зарекомендовал себя Паллас и остался в мировой науке. Его ботанические исследования не менее внушительны, чем географические. Он вторым после Габлица составил обширнейший список растений полуострова. Он значительно дополнил исследование своего предшественника, перечислив уже 969, а не 542 известных вида флоры. Видный ботаник двадцатого столетия Сергей Станков считает, что именно с Палласа следует отсчитывать историю изучения крымской растительности. Кроме того, академик впервые описал ряд крымских видов животных, положил начало климатическим и фенологическим наблюдениям.— В его работах содержатся ответы на многие вопросы развития растительного мира полуострова, нацеливающие на решение и нынешних хозяйственных задач, в частности лесоразведения и охраны природы яйл, — напоминает Василий Ена. — Приоритет учёного и в том, что он впервые указал на высотную дифференциацию растительного горного Крыма. Труды исследователя о Крыме стали вершиной его научного творчества, они широко известны во всём мире. А сама Таврида благодаря этим трудам обрела достойное место в представлениях натуралистов многих стран.
Не менее важны описания исторических мест Тавриды. До сих пор с интересом читаются его книги «О жителях полуострова», в которой приводится численность населения, национальный состав, виды занятий, «О нынешнем состоянии Крыма и возможных в нём экономических улучшениях» с обзором отраслей хозяйства и путей их совершенствования. Практическое значение имеют и в наше время его исследования «О крымском виноградарстве», «О плодовых садах Крыма». Паллас зарекомендовал себя не только как разносторонний учёный, но и как рачительный, знающий хозяйственник, высказывающий научно обоснованные предначертания развития Тавриды.
За год до кончины Паллас вернулся на родину, в Германию. О том, какую роль он сыграл в развитии европейского естествознания и какой характер носили представления тогдашних европейских светил о Крыме, можно судить по словам учёного Жоржа Кювье:
...Для человека, прожившего 15 лет в Малой Татарии, это значило почти возвратиться с того света...Палласовские путевые заметки и дневники до сих пор читаются, как увлекательный роман. Даже мастер изящного слога Осип Мандельштам признавался:
Я читаю Палласа с одышкой, не торопясь. Медленно перелистываю акварельные вёрсты. Сижу в почтовой карете с разумным и ласковым путешественником... Чтение этого натуралиста прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие...
Кстати
Имя Палласа увековечено в девяти названиях растений, произрастающих на полуострове. На сохранившемся здании усадьбы Палласа в заповедном ландшафтном симферопольском парке «Салгирка» установлена мемориальная доска. Имя учёного значится среди имён выдающихся горожан на памятной скрижали, установленной в центре Симферополя в честь 200-летия города.Имя Палласа носят действующий вулкан в гряде Курильских островов, гора в южной части Северного Урала, полуостров берега Харитона Лаптева в Карском море, риф у берегов Новой Гвинеи, улица в Берлине, город и железнодорожная станция в Волгоградской области, улицы в Новосибирске, Волгограде. Паллас был первым учёным, именем которого назван русский корабль.
Паллас был членом Лондонской, Римской, Неаполитанской, Геттингенской, Стокгольмской, Копенгагенской академий наук, Патриотического шведского общества, Лондонского и Монпельеского королевских обществ, Петербургского вольного экономического общества, Парижского национального института. Кавалер орденов Святого Владимира IV степени и Святой Анны II степени.
По инициативе Палласа в 1804 году было открыто Судакское училище виноградарства и виноделия.
Профессор Кембриджского университета Эдвард Дэниел Кларк писал:
Крым надолго останется знаменитым как местопребывание профессора Палласа, этого известного в учёном мире своими многочисленными трудами исследователя.
Людмила Обуховская, «